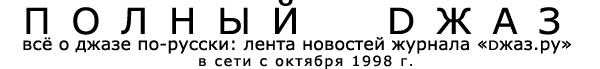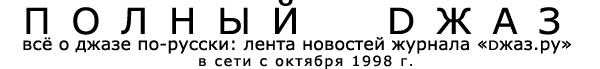|
Напомню, «Фестиваль Израиля» — наше главное культурное событие года, ему
более 40 лет, и в каждом из фестивалей есть джазовый блок. Иногда он
невелик и не представителен, иногда раздувается до размеров фестиваля в
фестивале. Делится всегда этот блок на две части: израильский джаз в
большом количестве представлен в общедоступных концертах в лобби
Иерусалимского театра («Театрон Иерушалаим» — комплекс, в котором
проходит большая часть фестивальных мероприятий), гастролеры и некоторые
израильтяне дают концерты в залах, для входа в которые надо покупать
билеты. В этом году таких концертов было четыре, и один из них был
израильским — выступление ансамбля Авишая Коэна.
Мы часто являемся свидетелями перехода музыкантов из одного состояния в
другое: смена инструмента на дирижерскую палочку, уход из классики в
джаз (как правило, им кажется, что они ушли в джаз), уход из джаза в
шоу-бизнес... Все они называют высокие и красивые причины переходов:
теснота в рамках одного инструмента, желание расширить репертуар и
обратиться к более широкому кругу публики... Истинных причин, как
правило, не называют — не очень красиво будет в прессе выглядеть боль в
спине, физическая и духовная усталость (ну надоело мне играть на
фортепиано, постою-ка я, великий, за пультом), уверенность в собственных
неограниченных возможностях (если я конкурс Чайковского выиграл, то уж
по блюзу точно сыграю лучше других) и, возможно, самое главное — желание
большего заработка, который дается меньшей кровью. Два последних
симптома являются проявлением одного, практически неизлечимого
заболевания — звездной болезни.
Авишай Коэн был несколько лет одним из лучших в мире джаза
контрабасистов, о чем я знаю не понаслышке — в ансамбле Чика Кориа
Origin в 1999 году в Эйлате он был лучшим, хотя не выпячивал себя, но
блистательно делал свое дело. Спустя несколько лет Коэн вернулся в
Израиль и представил свое трио, где уже был не только контрабасистом, а
лидером и композитором, о чем подробно написано и мною в статье о
прошлогоднем фестивале в Эйлате и коллегами, слышавшими ансамбль Коэна в
других странах. На концерт в Иерусалиме 2 июня я пошел в надежде на
метаморфозы, но увы, они были тщетны. С трудом верю, что, играя в высших
кругах американского джаза, можно выйти из них исключительно из любви к
Отчизне и желания вернуться в родительский дом. Предположу, что из этих
кругов Коэна аккуратно выставили, поскольку контрабасист не должен
тянуть одеяло на себя ни в музыке, ни в поведении на сцене. Именно тогда
он становится истинно великим — примеры Рэя Брауна и Рона Картера
хрестоматийны.
На «Фестивале Израиля» Авишай вывел на сцену квинтет, где ему составили
компанию известный по предыдущему составу пианист Шай Маэстро, гитарист
и удист Амос Хоффман, перкуссионист Итамар Дуари и певица Керен Малька.
Называю ее последней, поскольку ее участие в ансамбле непонятно. Голос
тусклый, диапазон узкий... Правда, неплохие внешние данные, и это
объясняет кое-что, не имеющее отношения к музыке. Хоффман — прекрасный
музыкант, которому в предложенной музыке почти нечего делать. Дуари —
музыкант фантастический, играющий в течение концерта и на большом
количестве восточных ударных инструментов и на обычном сете барабанов и
тарелок, но используется он в ансамбле на 80 процентов, как солист, но
не составная часть ансамбля. Маэстро — хороший пианист, но не более
того. Сам Коэн ... почти не играет на контрабасе. Он поет, причем в
течение всей почти двухчасовой программы, составленной из старинных и
современных израильских песен. Широкий круг слушателей в восторге — они
как бы на серьезном концерте, но слушают практически ту же музыку,
которая сопровождает их на рынке, звучит из каждого киоска на автобусных
станциях (есть в Израиле даже такое понятие — музыка «Таханы мерказит»,
на иврите — Центральной автобусной станции). Голос у Коэна сиплый и
бесцветный, все песни в одном темпераменте — в конце возникает ощущение,
что ты слышал одну песню, но очень длинную. Есть несколько смягчающих
тоску эпизодов, когда к квинтету добавляются превосходные духовики,
флейтист Илан Салем и тромбонист Одед Меир, но общее ощущение после
концерта — словно побывал на абсолютно чуждом тебе мероприятии, на
которое тебя не занесло бы никогда в жизни, не будь оно поставлено в
список джазовых. Иногда Коэн остается один на сцене и садится за рояль,
скромными аккордами аккомпанируя себе любимому — будто нет в группе
пианиста. Иногда Коэн все-таки солирует на своем инструменте, который
по-прежнему звучит красиво. Но позы, которые он принимает при этом,
абсолютно чужды эстетике джаза, ярко подтверждают поставленный выше
диагноз и объясняют многое. Не мог бы Чик Кориа сегодня играть с
музыкантом, извивающимся вокруг контрабаса, словно стриптизер. Кстати,
концерт был посвящен представлению нового диска «Аврора», у которого,
видимо, будет много покупателей. Но не тех, кто заполняет джазовые
залы...
 Двумя
днями раньше на той же сцене выступал действительно великий
контрабасист. Рено Гарсиа-Фон (Renaud Garcia-Fons) получил образование в
Париже тогда, когда там жили два великих барабанщика — Сэм Вудьярд и
Кенни Кларк, в ансамблях с которыми Гарсиа-Фон и начал свою карьеру. В
традиционном джазе ему стало тесно, сначала он добавил в контрабасе
пятую струну, а затем расширил круг партнеров за счет музыкантов из
арабских стран и Турции. На фестивале Гарсиа-Фон вышел на сцену в
составе трио «Арколуз» вместе с гитаристом Кико Ройзом и перкуссионистом
по имени Паскаль с оставшейся непонятной фамилией (он заменил в
последний момент уругвайского музыканта Хорхе «Негрито» Террасанта).
Музыка «Арколуз» — сочетание фламенко, средиземноморских ритмов и
интонаций, немного арабского, немного турецкого — абсолютно самобытна и
увлекательна. Гарсиа-Фон — не просто сильный музыкант, но музыкант
исключительный. Его инструмент звучит, как скрипка, виолончель, гитара
(кстати, когда Рено играл фламенко-соло, он напомнил мне Двоскина,
который лет 30 назад в «Аллегро» имитировал фламенко-гитару на своем
электробасе), порой как целый струнный ансамбль, между тем это лишь
акустический контрабас без единой электронной примочки! Я слышал почти
всех ведущих современных контрабасистов в классике и джазе, но ни один
из них даже близко не походит к Гарсиа-Фону. Каждого из них при
увлечении сольной игрой хочется похлопать по плечу и предложить
отдохнуть. Гарсиа-Фона после целого концерта можно было продолжать
слушать до бесконечности. Гитара и перкашн — аккомпанирующие
инструменты, выходящие вперед, только если того требует музыка. Большую
часть композиций трио играет вместе, и здесь можно сказать без всяких
скидок — оно звучит, как единый инструмент. Я бы заставил и джазменов, и
академических музыкантов слушать «Арколуз», как эталон ансамбля. А
любители должны запомнить имена Гарсиа-Фон и «Арколуз» навечно. Двумя
днями раньше на той же сцене выступал действительно великий
контрабасист. Рено Гарсиа-Фон (Renaud Garcia-Fons) получил образование в
Париже тогда, когда там жили два великих барабанщика — Сэм Вудьярд и
Кенни Кларк, в ансамблях с которыми Гарсиа-Фон и начал свою карьеру. В
традиционном джазе ему стало тесно, сначала он добавил в контрабасе
пятую струну, а затем расширил круг партнеров за счет музыкантов из
арабских стран и Турции. На фестивале Гарсиа-Фон вышел на сцену в
составе трио «Арколуз» вместе с гитаристом Кико Ройзом и перкуссионистом
по имени Паскаль с оставшейся непонятной фамилией (он заменил в
последний момент уругвайского музыканта Хорхе «Негрито» Террасанта).
Музыка «Арколуз» — сочетание фламенко, средиземноморских ритмов и
интонаций, немного арабского, немного турецкого — абсолютно самобытна и
увлекательна. Гарсиа-Фон — не просто сильный музыкант, но музыкант
исключительный. Его инструмент звучит, как скрипка, виолончель, гитара
(кстати, когда Рено играл фламенко-соло, он напомнил мне Двоскина,
который лет 30 назад в «Аллегро» имитировал фламенко-гитару на своем
электробасе), порой как целый струнный ансамбль, между тем это лишь
акустический контрабас без единой электронной примочки! Я слышал почти
всех ведущих современных контрабасистов в классике и джазе, но ни один
из них даже близко не походит к Гарсиа-Фону. Каждого из них при
увлечении сольной игрой хочется похлопать по плечу и предложить
отдохнуть. Гарсиа-Фона после целого концерта можно было продолжать
слушать до бесконечности. Гитара и перкашн — аккомпанирующие
инструменты, выходящие вперед, только если того требует музыка. Большую
часть композиций трио играет вместе, и здесь можно сказать без всяких
скидок — оно звучит, как единый инструмент. Я бы заставил и джазменов, и
академических музыкантов слушать «Арколуз», как эталон ансамбля. А
любители должны запомнить имена Гарсиа-Фон и «Арколуз» навечно.
 Паоло
Фрезу — ведущий трубач Италии и один из ведущих в Европе. Перечисление
партнеров неуместно, лишь отмечу альбом «The Lost Chords», где итальянец
— партнер квартета Карлы Блэй. В Иерусалим Фрезу привез «Дьявольский
квартет», в котором вместе с ним выступили гитарист Боб Ферра, басист
Паулино Делла Форте и барабанщик Стефано Баниоли. Каждый из них также
имеет богатый список партнеров — Мишель Петруччиани, Ли Конитц, Энрико
Рава, Кенни Уилер... Все музыканты превосходны, ансамбль первоклассен,
репертуар интересен. Отмечу отсутствие в чистом виде стандартов, но
иногда намеки на них цитированием отдельных фраз... Но назавтра после «Арколуза»
хотелось открытий, а их не было. Хотелось только музыки, а «Дьяволы»
вдруг начали демонстрировать свои возможности, и, как оказалось, безо
всякого музыкального обоснования. Контрабас Делла Форте был слишком
«фортиссимо» после Гарсиа-Фона. Но очень понравился Фрезу, когда
откладывал в сторону флюгельгорн и играл тихо и медленно на
засурдиненной трубе. Разочарования от концерта не было, но и вспомнить
уже назавтра было почти нечего. Паоло
Фрезу — ведущий трубач Италии и один из ведущих в Европе. Перечисление
партнеров неуместно, лишь отмечу альбом «The Lost Chords», где итальянец
— партнер квартета Карлы Блэй. В Иерусалим Фрезу привез «Дьявольский
квартет», в котором вместе с ним выступили гитарист Боб Ферра, басист
Паулино Делла Форте и барабанщик Стефано Баниоли. Каждый из них также
имеет богатый список партнеров — Мишель Петруччиани, Ли Конитц, Энрико
Рава, Кенни Уилер... Все музыканты превосходны, ансамбль первоклассен,
репертуар интересен. Отмечу отсутствие в чистом виде стандартов, но
иногда намеки на них цитированием отдельных фраз... Но назавтра после «Арколуза»
хотелось открытий, а их не было. Хотелось только музыки, а «Дьяволы»
вдруг начали демонстрировать свои возможности, и, как оказалось, безо
всякого музыкального обоснования. Контрабас Делла Форте был слишком
«фортиссимо» после Гарсиа-Фона. Но очень понравился Фрезу, когда
откладывал в сторону флюгельгорн и играл тихо и медленно на
засурдиненной трубе. Разочарования от концерта не было, но и вспомнить
уже назавтра было почти нечего.

Завершало джазовый блок 3 июня трио Джошуа Редмана. Ведущего
современного саксофониста не надо представлять специально. Партнеры по
авторитету были под стать Редману: контрабасист Рувен Роджерс (партнеры
— Дайана Ривз, Харгроув, Ллойд...) и барабанщик Эрик Харланд (дважды
номинант на «Грэмми», трио Sangam с Ллойдом и Закиром Хуссейном, другие
партнеры — Марсалис, Холланд, Маккой Тайнер...). Словом — суперзвезды.
Часто подобные альянсы рассыпаются на составляющие, но здесь и альянс
стал суперзвездой. Редман — один из редких джазовых лидеров, которые
всегда верны своему искусству.
 Внутри
джаза Джошуа экспериментирует, его музыка колеблется от классического
бопа до фри-джаза и джаз-рока, но он никогда сам не перешагивает границы
между джазом и попсой и не пускает на свою территорию никого из-за этой
границы. На сцене в течение почти двух часов не было ни одного
гармонического инструмента, но, тем не менее, ни на секунду не возникло
ощущение ненаполненности музыки. Каждому музыканту было что сказать, и
им было, что сказать вместе. Тематический материал базировался на
классических образцах джаза, но до оригинальных тем было далеко. Знающий
эти темы все слышал и пускался вместе с музыкантами в увлекательное
путешествие вокруг нот, составляющих темы (разительный контраст с
некоторыми музыкантами, позиционирующими себя, как крупные джазмены, но
играющие темы популярных песен по три-четыре раза в оригинальном виде,
после чего исполняющие вариации, сложнее которых играли в эпоху свинга).
Только в самом конце концерта, на третьем выходе на бис, Редман вдруг,
улыбаясь, сыграл почти точно тему из «Мэкки-найф». Внутри
джаза Джошуа экспериментирует, его музыка колеблется от классического
бопа до фри-джаза и джаз-рока, но он никогда сам не перешагивает границы
между джазом и попсой и не пускает на свою территорию никого из-за этой
границы. На сцене в течение почти двух часов не было ни одного
гармонического инструмента, но, тем не менее, ни на секунду не возникло
ощущение ненаполненности музыки. Каждому музыканту было что сказать, и
им было, что сказать вместе. Тематический материал базировался на
классических образцах джаза, но до оригинальных тем было далеко. Знающий
эти темы все слышал и пускался вместе с музыкантами в увлекательное
путешествие вокруг нот, составляющих темы (разительный контраст с
некоторыми музыкантами, позиционирующими себя, как крупные джазмены, но
играющие темы популярных песен по три-четыре раза в оригинальном виде,
после чего исполняющие вариации, сложнее которых играли в эпоху свинга).
Только в самом конце концерта, на третьем выходе на бис, Редман вдруг,
улыбаясь, сыграл почти точно тему из «Мэкки-найф».

Джаз в Израиле никогда не прекращается. В начале июля нас посещает еще
одно звездное трио — Данило Перес, Джон Патитуччи и Рой Хэйнз, а потом —
«Джаз на Красном море» в Эйлате. Программа еще не известна, но в
джазовом календаре последняя неделя августа отдана фестивалю навечно. И
место встречи изменить нельзя — Эйлат, не перепутайте с Акобой и Табой.
Они — через границы, рядом, но там никакого джаза не будет.
 Владимир
Мак Владимир
Мак
|