|

Белградский джаз-фестиваль, когда-то - самый крупный в
Юго-Восточной Европе, в 2005 г. после пятнадцатилетнего перерыва
восстановила компания организаторов, работающих на белградский Дом
молодёжи. Сам Дом, похожий на какой-нибудь советский НИИ
доперестроечных времён, сейчас как концертная площадка не работает (он
на долгом и сложном ремонте), поэтому концерты фестиваля идут в самых
разных залах и клубах по всей столице Сербии (в прошлом - всей
Югославской федерации, распавшейся в течение 90-х гг.).
Организаторы увлечены идеей воссоздать Белградский джаз-фестиваль
таким же мощным и ярким, каким он был с 1971 по 1990 г. (после чего в
Белграде стало не до джаза). На самом первом фестивале играл оркестр
Дюка Эллингтона, ансамбли Майлса Дэйвиса, Орнетта Коулмана и сборная
The Giants of Jazz (Диззи Гиллеспи, Сонни Ститт, Телониус Монк, Арт
Блэйки и др.) - такой уровень не то что переплюнуть, приблизиться к
нему в современных условиях, когда все эти титаны уже ушли из жизни,
дело невероятное! Однако организаторы и не собираются повторять
прошлое - они просто делают современный фестиваль, разнообразный и
пёстрый по программе, но истинно джазовый по духу. Даже девиз
фестиваля этого года (девиз каждый год меняется) - "Стриктно: джаз"
("Строго: джаз"), и девиз этот организаторы повторяют по поводу и без
повода.
 Арт-директор
фестиваля Воислав Пантич - типичный представитель этого маленького
кружка джазовых заговорщиков: в обычное время - мирный преподаватель
математики в университете, параллельно - пишущий о джазе и блюзе
журналист-фрилэнсер, любительски, но вполне прилично поигрывающий на
блюзовой губной гармошке, человек термоядерной энергии, непрерывно
висящий на телефоне, успевающий решать одновременно двадцать две
проблемы, с удовольствием сидящий в публике на им же организованных
концертах, вопящий от удовольствия при удачном соло со сцены, а потом
увлекающий музыкантов, плюс собранную им же в Белграде международную
журналистскую тусовку (человек 10 - Великобритания, Италия, Испания,
Франция, Дания, Австрия, Эстония и Россия) и волочащихся в кильватере
местных джаз-фэнов в ночной клуб, где ещё полночи пьёт пиво и, случись
в музыке завод, энергично выплясывает. Наш человек, в общем. Арт-директор
фестиваля Воислав Пантич - типичный представитель этого маленького
кружка джазовых заговорщиков: в обычное время - мирный преподаватель
математики в университете, параллельно - пишущий о джазе и блюзе
журналист-фрилэнсер, любительски, но вполне прилично поигрывающий на
блюзовой губной гармошке, человек термоядерной энергии, непрерывно
висящий на телефоне, успевающий решать одновременно двадцать две
проблемы, с удовольствием сидящий в публике на им же организованных
концертах, вопящий от удовольствия при удачном соло со сцены, а потом
увлекающий музыкантов, плюс собранную им же в Белграде международную
журналистскую тусовку (человек 10 - Великобритания, Италия, Испания,
Франция, Дания, Австрия, Эстония и Россия) и волочащихся в кильватере
местных джаз-фэнов в ночной клуб, где ещё полночи пьёт пиво и, случись
в музыке завод, энергично выплясывает. Наш человек, в общем.
 Собственно
фестиваль начался 24 октября концертом в театре "Позориште на
Теразияма", состоявшим аж из трёх часовых отделений с небольшими
перерывами. Собственно
фестиваль начался 24 октября концертом в театре "Позориште на
Теразияма", состоявшим аж из трёх часовых отделений с небольшими
перерывами.
Первым играл итальянский октет Джанлуиджи Тровези - маститого
композитора с европейской известностью, мастера язычковых духовых (на
этом концерте он играл на кларнете, бас-кларнете и альт-саксофоне).
Как обычно у Тровези, представленный его обширным, почти оркестрового
звучания ансамблем материал был крайне пёстр стилистически и состоял
из быстро сменяющихся тщательно выписанных эпизодов очень разной
фактуры, перемежаемых то очень короткими, то довольно
продолжительными, но всегда весьма качественными импровизационными
соло. Тровези - мастер выписывать интересные, темброво небанальные
сочетания инструментов: например, первую часть его "Симфониэтты"
играют только виолончель (Марко Ремондини), контрабас (Роберто Бонати),
бас-кларнет (сам маэстро) и перкуссия (колоритный Фульвио Марас), а в
развитии дуэт медных (тромбонист Беппе Карузо и трубач Массимо Греко)
перекликается короткими фразами с дуэтом контрабаса и виолончели, в то
время как басовую функцию подхватывает бас-гитара Марко Микели, а
солидный ритмический фундамент обеспечивает барабанщик Витторио
Маринони.

Единственно, чего не хватало в музыке сеньора Джанлуиджи - это
благородного джазового безумия: музыка его крайне аккуратна, приятна и
сдержанна; самое "неблагозвучное", на что отваживается обширный
ансамбль - минимальная гетерофония вариационого типа (когда
инструменты солируют одновременно, но не слишком далеко отступая от
темы). Но зато тембровых сочетаний, эффектов и неожиданных находок с
избытком хватило бы на два-три подобных коллектива. Запомнились
тембрально эффектные эпизоды - почти комически-диксилендовое сочетание
засурдиненных духовых и кларнета на простенькой ритмической базе "ум-ца,
ум-ца"; в пьесе "From G to G" ("От соль до соль" - представляя её,
маэстро сказал: "это шедевр, я его сам написал") - мягкое, но
изощрённо умное соло флюгельгорна Массимо Греко поверх риффа
перкуссии, виолончели и контрабаса. В пьесе "Blues And West" с альбома
2003 г. "Fugace" (ECM), основанной на инверсии соло трубы Луи
Армстронга из классического "West End Blues" - нарочито "корявое"
вступление на виолончели, которая вдруг врубила "мощный фуз"
(электронную педаль-исказитель) и заиграла натуральный хэви-метал, с
энтузиазмом (и стилистически очень точно) поддержанный ритм-секцией,
пока духовые играют короткие, хлёсткие риффообразные всплески.
Красивая баллада "Punti di Vista" незадолго до финала сета: тему
излагает засурдиненная труба на фоне странных созвучий, высекаемых
перкуссионистом из маленькой ударной миди-клавиатуры... короткое, но
насыщенное соло тромбона... страстный блюзовый хорус
(труба-тромбон-кларнет) на "подушке" струнных... соло перкуссии (это в
балладе-то!) - Фульвио Марас успевает не только играть по всей своей
"кухне" большими колотушками, но и управлять спецэффектами на лаптопе.
Впечатляет! Вот если бы баланс между количеством музыкальных идей на
единицу времени и количеством воспроизводимых музыкантами эмоций ещё
чуть-чуть подкрутить в сторону эмоций, а не мыслей...

Впрочем, наибольшим успехом у сербской аудитории пользовался финал
выступления октета Джанлуиджи Тровези, и не потому, что "наконец-то
кончают", а потому, что... Впрочем, всё по порядку: "In cerca di...
Mahler" означает "В поисках... Малера", и Джанлуиджи Тровези
действительно думал, что это он сделал серьёзную аранжировку пьесы
классического композитора Густава Малера. Но что, в свою очередь,
аранжировал Малер? Румынскую народную мелодию, которая в сербском
автономном крае Воеводина, до Первой мировой принадлежавшем
Австро-Венгрии, стала народной песней с сербским текстом. Сербская
аудитория до сих пор может эту песенку хоть со словами хором спеть,
так что вполне понятен огромный энтузиазм белградских слушателей при
каждом выявлении этой типично балканской, плясовой по настроению
мелодии в исполнении октета Джанлуиджи Тровези!

Вторым на сцену вышел австрийский квартет SAXOFOUR. Четыре блестящих
саксофониста, в копилке достижений которых - работа с покойным ныне
патриархом австрийского джаза Хансом Коллером (у Клауса Дикбауэра и
Вольфганга Пушнига), участие в ведущем австрийском биг-бэнде - Vienna
Art Orchestra (Флориан Брамбёк там работал, а Вольфганг Пушниг не
только работает и по сей день, но был в далёком 1977-м сооснователем
этого выдающегося оркестра), игра с множеством джазовых звёзд (все
четверо) и участие в престижных академических оркестрах (например,
Христиан Маурер играл в Берлинском филармоническом!) - в общем,
участники ансамбля обладают блестящим послужным списком. Это музыканты
с отличной академической и джазовой школой, которые могут играть ВСЁ.
Что же они в результате играют?
Первый альбом SAXOFOUR записали ещё в 1998 г., а всего в их совместной
дискографии семь записей. Последняя по времени выхода - "Our Favorite
Filmsongs" (EmArcy, 2007). Вот этот-то материал, популярную киномузыку
в джазовых обработках для квартета саксофонов без ритм-секции, они и
играют. Тему из "Мисс Марпл", "Янки Дудль" из фильма "Мост через реку
Квай", тему Джеймса Бонда, вальс "На прекрасном голубом Дунае" и даже
ковбойскую тему из "Великолепной семёрки"... Виртуозный
инструментальный цирк первоклассных инструменталистов, для каждого из
которых в ремесле духовика не осталось ничего неосвоенного.
Естественно, с привлечением типично музыкантского юмора, когда каждая
"музыкальная шутка" готовится заранее, с клоунским гримасничаньем в
сторону аудитории - вот, мол, смотрите, щаааас он кааааак... отмочит!
Отмачивает. Публика, послушно - ааах! Автор этих строк живо вспомнил
первого виденного в жизни уличного музыкального эксцентрика - на углу
улицы Сен-Андре-дез-Ар в Париже, 17 лет назад. Тот тоже точно так же
готовил публику к своим виртуозным трюком, чтоб публика не
расслаблялась, думая, что играть на таком высочайшем профессиональном
уровне так просто, как это кажется. Только тот музыкальный клоун был
один, и перед ним честно стояла шляпа, в которую сыпались в поте лица
заработанные им франки. Он не выходил на фестивальную сцену в большом
театральном зале и не разыгрывал пантомиму с понотной перекличкой
инструментов, из которой складывается мелодия, причём с каждой нотой
каждый из саксофонистов принимает какую-нибудь нелепую позу, не
забывая скорчить соответствующее лицо: мы шутим! Видите? Мы ШУТИМ!

Фестивальная программа построена непривычно: международный хэдлайнер
играет в начале, а местный артист - в последнем отделении. Для Москвы
такое решение стало бы критическим: к третьему отделению вряд ли
оставалось бы ползала. Не так в Белграде: своих музыкантов здесь не
просто поддерживают, их ОЧЕНЬ поддерживают. Поэтому на третье
отделение, отданное сербско-американской джазовой группе "Свети",
остался почти полный зал.
 Лидер
группы, 35-летний сербский барабанщик Марко Джорджевич, закончил в
Белграде единственное в югославской столице музыкальное учебное
заведение, обладающее джазовой программой - музыкальную школу им.
Корнелие Станковича, а в 1988-м 16-летним уехал в США учиться в
колледже Бёркли. С 93-го барабанщик осел в Нью-Йорке, где играл с
Уэйном Крэнтцем, Риком Маргитцей, Греггом Биссонеттом, Мэттом
Гаррисоном и др. В середине 90-х он создал собственную джаз-роковую
группу Sveti ("Святые", по-сербски), с которой с тех пор записал три
альбома. В прошлые составы "Свети" входили обладатели известных имён -
гитарист Лионель Луэке, басист Мэтт Гаррисон, мастер губной гармоники
Грегуар Марэ; много лет эта группа еженедельно играла в нью-йоркском
клубе Village MA. Лидер
группы, 35-летний сербский барабанщик Марко Джорджевич, закончил в
Белграде единственное в югославской столице музыкальное учебное
заведение, обладающее джазовой программой - музыкальную школу им.
Корнелие Станковича, а в 1988-м 16-летним уехал в США учиться в
колледже Бёркли. С 93-го барабанщик осел в Нью-Йорке, где играл с
Уэйном Крэнтцем, Риком Маргитцей, Греггом Биссонеттом, Мэттом
Гаррисоном и др. В середине 90-х он создал собственную джаз-роковую
группу Sveti ("Святые", по-сербски), с которой с тех пор записал три
альбома. В прошлые составы "Свети" входили обладатели известных имён -
гитарист Лионель Луэке, басист Мэтт Гаррисон, мастер губной гармоники
Грегуар Марэ; много лет эта группа еженедельно играла в нью-йоркском
клубе Village MA.
 В
нынешнем составе числятся британский мастер вентильного тромбона
Эллиот Мэйсон и израильский саксофонист Эли Диджибри, но на
белградской сцене они не появились: "Свети" приехали квартетом - Марко
Джорджевич на барабанах и три американца, контрабасист Матт Паволка,
совсем юный выпускник Бёркли - гитарист Нир Фелдер и опытный клавишник
Аарон Голдберг. Только Паволка - постоянный участник "Святых", но на
качестве игры этот факт совсем не сказывается (Нью-Йорк всё-таки).
Ансамбль с энтузиазмом играет несложную, но сильную музыку своего
лидера: в ней явно слышны его балканские корни, но слышно и увлечение
ритмикой и тембрами современных джем-бэндов, и нью-йоркский опыт. Это
был бы совсем джем-бэнд, если материал не был бы по-джаз-роковому
тщательно выписан и, в отличие от музыки большинства джем-бэндов, не
обладал бы приятным и запоминающимся мелодическим потенциалом. Так,
наверное, звучала бы группа Пэта Мэтини, если бы Пэт был сербом, а его
клавишник Лайл Мэйз обладал бы склонностью к фри-джазовым сольным
эпизодам. В
нынешнем составе числятся британский мастер вентильного тромбона
Эллиот Мэйсон и израильский саксофонист Эли Диджибри, но на
белградской сцене они не появились: "Свети" приехали квартетом - Марко
Джорджевич на барабанах и три американца, контрабасист Матт Паволка,
совсем юный выпускник Бёркли - гитарист Нир Фелдер и опытный клавишник
Аарон Голдберг. Только Паволка - постоянный участник "Святых", но на
качестве игры этот факт совсем не сказывается (Нью-Йорк всё-таки).
Ансамбль с энтузиазмом играет несложную, но сильную музыку своего
лидера: в ней явно слышны его балканские корни, но слышно и увлечение
ритмикой и тембрами современных джем-бэндов, и нью-йоркский опыт. Это
был бы совсем джем-бэнд, если материал не был бы по-джаз-роковому
тщательно выписан и, в отличие от музыки большинства джем-бэндов, не
обладал бы приятным и запоминающимся мелодическим потенциалом. Так,
наверное, звучала бы группа Пэта Мэтини, если бы Пэт был сербом, а его
клавишник Лайл Мэйз обладал бы склонностью к фри-джазовым сольным
эпизодам.
 День
25 октября включал три концертных программы в популярном белградском
клубе Bitef Art Cafe, расположенном в недействующей католической
церкви. На этот раз хэдлайнер играл в конце, так что вашему покорному
слуге пришлось нелегко: в Сербии курят практически все (кроме,
кажется, продюсера Белградского фестиваля Драгана Амброзича), и курят
жестоко - всегда и везде, а в ночных клубах - с удвоенным энтузиазмом,
так что четыре часа в Bitef Art Cafe для некурящего автора этих строк
превратились в непрерывный газенваген. День
25 октября включал три концертных программы в популярном белградском
клубе Bitef Art Cafe, расположенном в недействующей католической
церкви. На этот раз хэдлайнер играл в конце, так что вашему покорному
слуге пришлось нелегко: в Сербии курят практически все (кроме,
кажется, продюсера Белградского фестиваля Драгана Амброзича), и курят
жестоко - всегда и везде, а в ночных клубах - с удвоенным энтузиазмом,
так что четыре часа в Bitef Art Cafe для некурящего автора этих строк
превратились в непрерывный газенваген.
 Первая
часть вечера включала представление альбома "Ballad for Eddy",
посвященного памяти покойного лидера сербского джаза,
тенор-саксофониста Эдуарда Саджила (1928-1999). На диске собраны его
лучшие записи с биг-бэндом Белградского радио и телевидения; на
презентации о покойном музыканте много и хорошо говорил Воислав Симич
- лидер биг-бэнда с 1947 по 1987 гг., дочь Саджила - певица и
журналистка, а также много других музыкантов, после чего в честь
покойного саксофониста выступил белградский ансамбль Three Tenors -
три сильных тенор-саксофониста (Любиша Паунич, Александар Ячимович и
Кристиян Млачак) плюс ритм-секция (пианист Иван Алексиевич, басист
Бата Божанич и барабанщик Петар Радмилович). Каждый из тенористов
представил по балладе, а в промежутках они играли "горячие" пьесы в
три дудки, закончив на аж "Some Skunk Funk" братьев Бреккеров. Первая
часть вечера включала представление альбома "Ballad for Eddy",
посвященного памяти покойного лидера сербского джаза,
тенор-саксофониста Эдуарда Саджила (1928-1999). На диске собраны его
лучшие записи с биг-бэндом Белградского радио и телевидения; на
презентации о покойном музыканте много и хорошо говорил Воислав Симич
- лидер биг-бэнда с 1947 по 1987 гг., дочь Саджила - певица и
журналистка, а также много других музыкантов, после чего в честь
покойного саксофониста выступил белградский ансамбль Three Tenors -
три сильных тенор-саксофониста (Любиша Паунич, Александар Ячимович и
Кристиян Млачак) плюс ритм-секция (пианист Иван Алексиевич, басист
Бата Божанич и барабанщик Петар Радмилович). Каждый из тенористов
представил по балладе, а в промежутках они играли "горячие" пьесы в
три дудки, закончив на аж "Some Skunk Funk" братьев Бреккеров.
Перед вторым концертом немного поиграл пианист из Кардиффа (Уэльс)
Джефф Илз, приехавший на фестиваль ради мастер-класса, который он
должен был 26-го давать в школе им. Станковича. Честно говоря, о
клубном выступлении мистера Илза автору этих строк сказать особенно
нечего - ну не ругаться же.
Из Кардиффа была и основная группа второго отделения - ансамбль
пианиста Дейва Стэплтона. Молодой пианист пишет не самую банальную и
совсем не самую глупую музыку, а его академическая выучка позволяет
ему справляться с самыми непростыми задачами, которые он перед собой
ставит - хотя, признаться, особо сложных он и не ставит: материал
концерта представляет собой несколько приятных сочинений, иногда на не
лишённых интереса остинантных фигурах, иногда с чисто песенной
гармонией, где много контрастных эпизодов со сменой динамики и
зачастую - со сломом ритма. Но для решения этих задач явно стоило
поискать, пусть и вне Кардиффа, барабанщика с более разнообразной
техникой игры, а также контрабасиста (пусть, может быть, и банально -
мужчину, а не даму, как в этом ансамбле), который хотя бы слышал о
том, что инструмент перед выступлением стоит настраивать. Возможно,
тогда усилия лидера и особенно - незаурядное дарование действительно
сильного трубача Джони Брюса не пропадали бы втуне.
 Зато
совершенно не разочаровал хэдлайнер, норвежское трио гитариста Эйвинда
Орсета. Как и значительную часть современной норвежской
импровизационной сцены, отнести музыку Орсета к такому уж джазу-джазу
как-то совсем непросто. По динамике и тембровой колористике звучания
это - рок, по задействованным средствам - электроакустика (перед двумя
из трёх музыкантов - гитаристом и барабанщиком Ветле Хольте - стоит и
компьютер, с которым оба возятся едва ли не чаще, чем с основным
инструментом) . Но по насыщенности импровизационной мысли, по
удельному весу импровизации в общей музыкальной картине - безусловно,
это и джаз тоже. Зато
совершенно не разочаровал хэдлайнер, норвежское трио гитариста Эйвинда
Орсета. Как и значительную часть современной норвежской
импровизационной сцены, отнести музыку Орсета к такому уж джазу-джазу
как-то совсем непросто. По динамике и тембровой колористике звучания
это - рок, по задействованным средствам - электроакустика (перед двумя
из трёх музыкантов - гитаристом и барабанщиком Ветле Хольте - стоит и
компьютер, с которым оба возятся едва ли не чаще, чем с основным
инструментом) . Но по насыщенности импровизационной мысли, по
удельному весу импровизации в общей музыкальной картине - безусловно,
это и джаз тоже.
Норвежское трио, невзирая на общую внешнюю невозмутимость и
отстранённость, очень точно работает с аудиторией, точнее - со
способностью аудитории воспринимать музыку. Репертуар трио состоит из
двух основных типов произведений: в типе А лидер и барабанщик
склоняются к своим лэптопам, в то время как басист Аудун Эрлиен не
столько дёргает за струны, сколько топчет многочисленные педальные
контроллеры лежащего перед ним на полу звукового процессора, и
ансамбль оглашает помещение протяжёнными, насыщенными электронными
саундскейпами; в типе Б, напротив, музыканты отворачиваются от
компьютеров и с изрядным подъёмом жахают громкий (и не слишком
сложный) гитарный импров-рок. Так вот эти два типа произведений
музыканты очевидно чередуют, по принципу "два саундскейпа - один рок"
или что-то около того, благодаря чему аудитория не успевает как
следует "загрузиться" на сложных электронных звуковых ландшафтах, как
уже наступает время бодро прыгать под ритмичный и напористый
рок-импров. Одна беда - ни тип А, ни тип Б не позволяют адекватно
оценить, что там у членов группы с чисто инструментальным мастерством.
Отсутствие в репертуаре какого-нибудь ориентированного на этот
показатель "типа Ц" даёт основания полагать, что... музыка трио вообще
"не про это", и не демонстрация личного мастерства интересует этих
музыкантов, а что-то совсем иное. И это, по совести говоря, наиболее
веский аргумент за то, что их музыка - не совсем джаз. С другой
стороны, это отнюдь не плохая музыка, так что, может быть - и ничего?

Третий день фестиваля для собравшейся в Белграде журналистской братии
оказался самым насыщенным. Сначала мы знакомились с упомянутой выше
музыкальной школой им. Станковича - самым старым (1911) в Белграде
музыкальным учебным заведением и единственным, где есть джазовая
программа от "азов" до уровня колледжа. В красивом старом зале школы
студенческий биг-бэнд, слегка усиленный преподавателями, играл музыку
британского гостя Дэйва Стэплтона (несколько чуть вычурную и, как
следствие, несколько чуть сложную для студенческого оркестра, изрядно
напутавшего-таки в первой части произведения), после чего для
студентов немного поиграли "Свети" во главе с самым известным
выпускником школы - барабанщиком Марко Джорджевичем.

Затем в школе был мастер-класс вышеупомянутого пианиста из Кардиффа -
Джеффа Илза, который демонстрировал студентам особенности техники
различных джазовых пианистов, а мы тем временем отправились на
презентацию приуроченного выходом к фестивалю нового альбома
популярной сербской джаз-рок-группы Васила Хаджиманова "3". И,
наконец, вечерний концерт в огромном киноконцертном зале "Дом
Синдиката" открыла именно группа Васила Хадзиманова.
 Клавишник
Васил Хадзиманов родился 34 года назад в Белграде, в семье известных
югославских эстрадных исполнителей. Как и Марко Джорджевич, в начале
90-х Васил отправился учиться в Бёркли, потом работал в Нью-Йорке, но
к концу 90-х вернулся в родной Белград, чтобы собрать собственную
группу. Клавишник
Васил Хадзиманов родился 34 года назад в Белграде, в семье известных
югославских эстрадных исполнителей. Как и Марко Джорджевич, в начале
90-х Васил отправился учиться в Бёркли, потом работал в Нью-Йорке, но
к концу 90-х вернулся в родной Белград, чтобы собрать собственную
группу.
В музыке Vasil Hadzimanov Band отчётливо ощущается прежде всего
влияние "Синдиката" покойного Джо Завинула, вот только в этно-фьюжн
VHB замешано куда меньше африканских и латиноамериканских и куда
больше балканских ритмов и мелодий, что, в общем-то, закономерно.
Нечётные ритмы и изобилие стоп-таймов, характерные прихотливые мелизмы
в изложении мелодического материала, помноженные на незаурядное
мастерство по крайней мере двух членов группы - самого Васила и его
перкуссиониста Бояна Ивковича - всё это позволяет говорить о VHB как о
достаточно оригинальном явлении, хотя, конечно, тень Завинула почти
всё время витала над сценой.
Нужно отметить, что Хадзиманов известен как один из самых активных
пропагандистов "межбалканского сотрудничества" в области музыки: в
прошлые годы с его группой выступало множество приглашённых музыкантов
из других балканских стран - как бывшей Югославии (Хорватия,
Македония, Босния), так и из Болгарии (в том числе замечательный
мастер игры на вертикальной флейте кавал Теодоси Спасов). Вот и в этот
раз с группой играл специальный гость - болгарский трубач Росен
Захариев-Роко, чья труба и особенно флюгельгорн внесли неожиданную
теплоту в несколько механистичное, прохладное (невзирая на заводную
ритмику) звучание VHB.

Главной звездой вечера стала португальская вокалистка Мария Жуан. Она
выступала с очень скромным ансамблем - электрогитара (Андрэ Фернандес),
контрабас (Демьян Кабо) и барабаны (Алешандре Фразау). Впервые за дни
фестиваля, насыщенные энергичной и напористой музыкой, на сцене пели и
играли преимущественно негромко, причём это "негромко" было не
нарочитым приёмом, контрастным эпизодом после изматывающей четверти
часа экстремально высоких динамических значений, но естественное
состояние ансамбля, выразительное средство, которого требует именно
эта музыка.
 Сразу
замечу: джазовой певицей Марию Жуан можно назвать только в самом
широком смысле - её музыка представляет собой очень пёструю смесь
джаза, рока, португальского фаду, бразильской самбы и босса-новы и -
временами очень отчётливо - африканской музыки. Мария родилась в
Лиссабоне в 1956 г. от отца-португальца и матери родом из Мозамбика. В
молодости она занималась чем угодно, только не музыкой, в частности -
профессионально тренировалась в восточных единоборствах (каратэ и
айкидо), а также работала в Лиссабонском Главном управлении спорта в
качестве тренера по плаванию для детей с задержками в развитии. Мария
даже и не слушала музыку, пока случайно не наткнулась на записи
американской вокалистки Джони Митчелл, которые ей очень понравились. А
тут ещё и закрылась школа плавания, где коллега частенько подначивала
Марию, что с её громким голосом ей надо стать певицей, и один приятель
действительно пригласил Марию петь в свою рок-группу. Правда, терпения
Марии хватило всего на месяц работы в роке, который показался ей
слишком монотонным. Затем (это случилось в 1982 г) её привели на
прослушивание в джазовую школу, которую открывал старейший в Лиссабоне
джазовый клуб, Hot Clube de Lisboa. До этого Мария Жуан слушала джаз
только один раз в жизни, на фестивале в городке Кашкайш, недалеко от
Лиссабона. Правда, на этом маленьком фестивале выступали тогда такие
гиганты, как Майлс Дэйвис, Кит Джарретт, Жан-Люк Понти и Нэнси Уилсон,
так что впечатления были сильные. Для прослушивания в школу Мария
выбрала бразильскую песенку, но выяснилось, что аккомпаниаторы на
экзаменах этой песенки не знают, и пришлось ей сымпровизировать с этим
ансамблем американский джазовый стандарт. Марию тут же взяли в школу,
потому что в "Хот-Клабе" отчаянно не хватало вокалисток, которые
способны были бы импровизировать! Сразу
замечу: джазовой певицей Марию Жуан можно назвать только в самом
широком смысле - её музыка представляет собой очень пёструю смесь
джаза, рока, португальского фаду, бразильской самбы и босса-новы и -
временами очень отчётливо - африканской музыки. Мария родилась в
Лиссабоне в 1956 г. от отца-португальца и матери родом из Мозамбика. В
молодости она занималась чем угодно, только не музыкой, в частности -
профессионально тренировалась в восточных единоборствах (каратэ и
айкидо), а также работала в Лиссабонском Главном управлении спорта в
качестве тренера по плаванию для детей с задержками в развитии. Мария
даже и не слушала музыку, пока случайно не наткнулась на записи
американской вокалистки Джони Митчелл, которые ей очень понравились. А
тут ещё и закрылась школа плавания, где коллега частенько подначивала
Марию, что с её громким голосом ей надо стать певицей, и один приятель
действительно пригласил Марию петь в свою рок-группу. Правда, терпения
Марии хватило всего на месяц работы в роке, который показался ей
слишком монотонным. Затем (это случилось в 1982 г) её привели на
прослушивание в джазовую школу, которую открывал старейший в Лиссабоне
джазовый клуб, Hot Clube de Lisboa. До этого Мария Жуан слушала джаз
только один раз в жизни, на фестивале в городке Кашкайш, недалеко от
Лиссабона. Правда, на этом маленьком фестивале выступали тогда такие
гиганты, как Майлс Дэйвис, Кит Джарретт, Жан-Люк Понти и Нэнси Уилсон,
так что впечатления были сильные. Для прослушивания в школу Мария
выбрала бразильскую песенку, но выяснилось, что аккомпаниаторы на
экзаменах этой песенки не знают, и пришлось ей сымпровизировать с этим
ансамблем американский джазовый стандарт. Марию тут же взяли в школу,
потому что в "Хот-Клабе" отчаянно не хватало вокалисток, которые
способны были бы импровизировать!
 Так
началась одна из самых ярких карьер в португальском джазе. После
первых записей и телевизионных выступлений в середине 80-х молодая
певица дебютировала на широкой сцене того самого фестиваля в Кашкайше,
затем впервые выступила за границей, в испанском Сан-Себастьяне, а
вскоре уже гастролировала по Германии, где её ждал первый серьёзный
успех. И именно в Германии Мария Жуан встретила живущую в Мюнхене
японскую фри-джазовую пианистку Аки Такасэ, которая впервые свела
молодую португальскую певицу с пути подражательства американским
джазовым дивам, раскрыв ей широкие горизонты самых разных направлений
импровизационной музыки. В 90-е годы сложился уникальный собственный
стиль Марии Жуан, в который вошли и европейские, и американские, и
африканские влияния. Особенно широко имя Жуао стало известно благодаря
сотрудничеству с группой великого джаз-рокового клавишника Джо Завинула,
The Zawinul Syndicate, а затем - с известным португальским пианистом
Марио Лажинья, с которым Мария записала множество весьма интересных
альбомов. В наши дни она давно выступает с собственным ансамблем, но
музыка, которую писал для неё Лажинья в 90-е годы, регулярно звучит в
её концертных программах. Вот и на этот раз, после целого часа
довольно однообразных тихих и милых песенок с более новых записей,
эмоциональной вершиной концерта стала весёлая и яркая песенка Лажиньи
“Saris e Capulanas” с их совместного альбома 1998 г. “Cor”. Так
началась одна из самых ярких карьер в португальском джазе. После
первых записей и телевизионных выступлений в середине 80-х молодая
певица дебютировала на широкой сцене того самого фестиваля в Кашкайше,
затем впервые выступила за границей, в испанском Сан-Себастьяне, а
вскоре уже гастролировала по Германии, где её ждал первый серьёзный
успех. И именно в Германии Мария Жуан встретила живущую в Мюнхене
японскую фри-джазовую пианистку Аки Такасэ, которая впервые свела
молодую португальскую певицу с пути подражательства американским
джазовым дивам, раскрыв ей широкие горизонты самых разных направлений
импровизационной музыки. В 90-е годы сложился уникальный собственный
стиль Марии Жуан, в который вошли и европейские, и американские, и
африканские влияния. Особенно широко имя Жуао стало известно благодаря
сотрудничеству с группой великого джаз-рокового клавишника Джо Завинула,
The Zawinul Syndicate, а затем - с известным португальским пианистом
Марио Лажинья, с которым Мария записала множество весьма интересных
альбомов. В наши дни она давно выступает с собственным ансамблем, но
музыка, которую писал для неё Лажинья в 90-е годы, регулярно звучит в
её концертных программах. Вот и на этот раз, после целого часа
довольно однообразных тихих и милых песенок с более новых записей,
эмоциональной вершиной концерта стала весёлая и яркая песенка Лажиньи
“Saris e Capulanas” с их совместного альбома 1998 г. “Cor”.
Последним для вашего покорного слуги, которого в Москве ждали дела,
днём 23-го Белградского джаз-фестиваля стал день 27 октября,
концертная программа которого проходила в великолепно звучащем Большом
зале Фонда им. Илие Колараца. В этом зале, резонирующем, как старинная
скрипка, выступали Прокофьев, Бриттен, Пендерецки, Рубинштейн, Рихтер,
Ойстрах, Менухин, Ростропович, Хворостовский, фон Караян, Стоковски и
десятки других суперзвёзд академической музыки. Закономерно, что в
рамках джазового фестиваля Большой зал стал местом выступления двух
звёзд джазового фортепиано, причём первый из этих музыкантов играл не
только соло, но и как академический музыкант - без усиления звука. Это
был Брэд Мэлдау.
 С
самых первых нот, сыгранных 37-летним американским пианистом, стало
ясно, что его сольная программа всё так же в основном строится на
приёме сплошной арпеджированной пульсации (быстрого, равномерно
акцентированного перебора звуков каждого аккорда) - мы уже могли
оценить это прошлой зимой в Москве. Впрочем, впечатление выгодно
отличается от полученного 10 месяцев назад,. Хотя ритмические средства
Брэд использует практически те же самые, содержательная сторона его
музыки на этот раз прочитывается намного легче. Или это эффект
небольшого уютного зала фонда им. Колараца, обшитого глуховатыми
деревянными панелями? Огромный гулкий Зал Чайковского с его
легендарной славой, возможно, 10 месяцев назад просто чрезмерно давил
на пианиста; ему тогда хотелось показать себя перед искушённой (как
ему, вероятно, думалось) московской публикой глубже и серьёзнее, чем,
скорее всего, было нужно. Здесь же, в Белграде (не могу, к сожалению,
показать, как это было - фотографировать артиста было запрещено на
протяжении всего концерта) Брэд не нырял столь глубоко, как в Москве;
создаваемые им звуковые конструкции, при всей их исполнительской
сложности, оставались вполне доступными для аудитории (кстати, в
отличие от 12-миллионной Москвы, где 1600-местный "Чайник" был
заполнен далеко не до отказа, в двухмиллионном Белграде 890-местный
зал был забит битком, с невесть как пробравшимися безбилетниками вдоль
стен). С
самых первых нот, сыгранных 37-летним американским пианистом, стало
ясно, что его сольная программа всё так же в основном строится на
приёме сплошной арпеджированной пульсации (быстрого, равномерно
акцентированного перебора звуков каждого аккорда) - мы уже могли
оценить это прошлой зимой в Москве. Впрочем, впечатление выгодно
отличается от полученного 10 месяцев назад,. Хотя ритмические средства
Брэд использует практически те же самые, содержательная сторона его
музыки на этот раз прочитывается намного легче. Или это эффект
небольшого уютного зала фонда им. Колараца, обшитого глуховатыми
деревянными панелями? Огромный гулкий Зал Чайковского с его
легендарной славой, возможно, 10 месяцев назад просто чрезмерно давил
на пианиста; ему тогда хотелось показать себя перед искушённой (как
ему, вероятно, думалось) московской публикой глубже и серьёзнее, чем,
скорее всего, было нужно. Здесь же, в Белграде (не могу, к сожалению,
показать, как это было - фотографировать артиста было запрещено на
протяжении всего концерта) Брэд не нырял столь глубоко, как в Москве;
создаваемые им звуковые конструкции, при всей их исполнительской
сложности, оставались вполне доступными для аудитории (кстати, в
отличие от 12-миллионной Москвы, где 1600-местный "Чайник" был
заполнен далеко не до отказа, в двухмиллионном Белграде 890-местный
зал был забит битком, с невесть как пробравшимися безбилетниками вдоль
стен).
После взаимной притирки музыканта и публики, а также неизбежной
"усадки" зала в течение первых двух произведений программы, несложные
романтические построения третьей, медленной пьесы, в которых не было
ничего особенно джазового (кроме того, что большая честь нотного
текста была не выписана, а сымпровизирована, пусть и по некоему
предварительному плану) так проняли аудиторию, что в зале можно было
услышать дыхание каждого отдельного слушателя.
Вообще романтизм кажется господствующей стилистикой в том, что играет
Мэлдау в этой программе. По совести говоря, в большей части материала
свинг присутствует только как ощущение движения, но не как
главенствующий ритмический принцип. По сравнению с московским
концертом, пианисту удалось найти и относительно точно соблюдать
баланс между беспрестанной пульсацией в среднем регистре, составляющей
основу ритмического движения большей части его музыкального материала,
и мелодико-гармоническим развитием, которое внутри этой неостановимой,
временами чрезвычайно плотной пульсации то и дело перескакивает из
нижнего регистра в верхний и обратно, таким образом всё время
перекидываясь между руками музыканта. Кстати, стоит отметить, что
именно в этом материале его сольного музицирования теперь стало
отчётливо слышно, насколько сильно мышление Мэлдау в плане
мелодико-гармонического развития, осуществляемого его левой рукой.
Пожалуй, настолько же насыщенные партии левой руки в настолько же
далёком от традиционного джаза (хотя и насквозь импровизационном)
материале в сольном музицировании приходилось слышать разве что у
великого японского пианиста Масахико Сато. Интересно, что, когда этого
требует логика импровизационного развития, пианист с лёгкостью меняет
руки - например, сыграв левой рукой красивый эпизод в басовом
регистре, продолжает пульсацию в правой руке, а левую переносит в
верхнюю часть клавиатуры, скрестя руки, и левой рукой развивает
мелодическую линию вверху.
В том, что играет Мэлдау соло, до определённого момента нет ни единой
блюзовой ноты, ни одного намёка на манеру великих джазовых пианистов
прошлого. Очень отдалённые отзвуки отдельных штрихов Билла Эванса
(сравнения с которым Мэлдау не любит, хотя в его более джазовой
программе в составе трио эти намёки таки достаточно отчётливо слышны),
очень отдалённое сходство с манерой возведения плотных, текучих
гармонических напластований Кита Джаррета (в сольном, конечно,
варианте) - но именно намёки: вот эта непрестанная пульсация, в
которой, внутри сугубо академической европейской гармонии, Мэлдау всё
время выявляет подвижный басовый низ и красивый, романтичный
мелодический верх - это всё-таки не кто-то из великих в интерпретации
Мэлдау. Это, несомненно, он сам.
И только финальная четверть концерта - цепочка хорошо известных
джазовых тем, начавшаяся с "I Fall In Love So Easily" - напоминает,
что слушаем мы не современную европейскую камерную музыку, а джаз.
Выясняется, что используемые Брэдом при игре в трио элементы
традиционного джазового языка (хотя бы те самые пресловутые блюзовые
ноты) совершенно органично ложатся и в ткань его сольного
музицирования. При этом его основной приём ритмической организации,
арпеджированная пульсация, никуда не уходит: Мэлдау с лёгкостью
приспосабливает его и к изложению чисто джазового материала, удачно
чередуя с контрастными по динамике и плотности музыкальной ткани
(проще говоря - более прозрачными, менее напряжёнными) эпизодами.
Финальным концертом фестиваля для меня стало выступление в том же зале
трио шведского пианиста Бобо Стенсона. Его музыка была несколько проще
и доступнее того, что предложил белградским слушателям Брэд Мэлдау -
хотя бы за счёт того, что Стенсон выступал в составе трио, то есть с
ритм-секцией, и ощущения свинга (хотя и по-европейски неявного) было
больше. Барабанщик Йон Фелт и контрабасист Кристиан Сперинг идеально
подходят своему лидеру, который на нынешнем этапе своего более чем
сорокалетнего развития несколько отошёл от эстетики североевропейского
лейбла ECM, в развитие которого он сам вложил столько сил и таланта,
играя с Яном Гарбареком, Чарлзом Ллойдом, Йоном Кристенсеном, Арильдом
Андерсеном, Томашем Станько и Полом Моушном. Сейчас в музыке Стенсона,
лауреата Европейской джазовой премии 2006 г., стало намного меньше
"нордических просторов" и "ледяных фьордов" из эпохи золотого века ECM,
зато ритмика стала живее (особенно запомнилась в этом плане
пьеса-посвящение Че Геваре, "El Mayor"), а музыкальные источники
разнообразнее (запомнилась весьма лихая аранжировка пьесы британского
классика, Генри Пёрселла, 1690 г. - "Music For A While"). Но в целом,
при общей яркости и доступности игры Стенсона сотоварищи, впечатление
от предшествовавшего концерта Мэлдау - пусть далеко не идеального и
эстетически спорного - всё же перевешивало. Будем ждать весны 2008 г.,
когда в Москве запланировано выступление Брэда Мэлдау с его трио - а
это уже совсем другая история, нежели его сольное музицирование!

Так для автора этих строк завершился 23-й Белградский джаз-фестиваль.
На самом деле, программа его продолжалась ещё три дня: выступали
саксофонист Рави Колтрейн, невероятный израильский контрабасист Авишай
Коэн, ветеран 60-х саксофонист Арчи Шепп (не с блюзовым квартетом, как
в Москве, а с африканскими вокалистами Dar Gnawa), вокалистка Ди Ди
Бриджуотер (тоже с африканским проектом "Красная земля - Путешествие в
Мали") и ряд других музыкантов (финских, французских и сербских).
Этого я не увидел, но уверен, что всё прошло так же ярко и насыщенно,
как и то, чему мне удалось быть свидетелем.
 Кстати,
российские музыканты (секстет Игоря Бриля) последний раз выступали на
Белградском фестивале ровно двадцать лет назад. Беседуя с
арт-директором фестиваля Воиславом Пантичем, я намекнул, что это
довольно большой перерыв и что пора показать сербской публике
современный российский джаз. Посмотрим, что из этого выйдет! Кстати,
российские музыканты (секстет Игоря Бриля) последний раз выступали на
Белградском фестивале ровно двадцать лет назад. Беседуя с
арт-директором фестиваля Воиславом Пантичем, я намекнул, что это
довольно большой перерыв и что пора показать сербской публике
современный российский джаз. Посмотрим, что из этого выйдет!
Автор выражает глубокую признательность за помощь в организации
поездки Мадли-Лиис Партс и - от всего сердца - доблестному Воиславу
Пантичу (дай Бог успеха, Воя!).
|
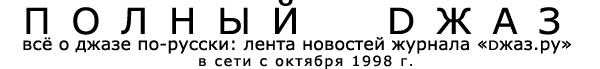
![]()