25 января 2018 в Санкт-Петербурге отмечает 80-й день рождения выдающийся российский джазовый музыкант, композитор, бэндлидер, педагог — Геннадий Гольштейн.
Геннадий Львович родился в Ленинграде 25 января 1938, в детской музыкальной школе изучал игру на кларнете, в юношеском возрасте освоил альт-саксофон. В 1956 г. 18-летний Гена окончил автодорожный техникум, но по специальности почти не работал: уже в 1959 г. Геннадий Гольштейн стал сначала солистом, затем концертмейстером группы саксофонов в самом популярном ленинградском биг-бэнде той эпохи — оркестре Иосифа Вайнштейна, где проработал до 1967 г. Блестящее владение альт-саксофоном и доскональное знание творческого наследия великого альтиста Чарли Паркера принесли Гольштейну прозвище «Чарли».

В составе оркестра Вайнштейна саксофонист участвовал в записи двух виниловых 10-дюймовых альбомов («грандов», в отличие от возобладавших в 1970-е гг. «гигантов» диаметром 12 дюймов), выпущенных Всесоюзной студией грамзаписи (будущей ВФГ «Мелодия») в 1962 и 1967 гг.
Гастролировавшие в СССР в 1962 г. участники оркестра Бенни Гудмана особо отмечали Гольштейна как советского джазмена, который произвёл на них особенно благоприятное впечатление. В опубликованных «Джаз.Ру» воспоминаниях об этом турне контрабасист гудмановского оркестра Билл Кроу, в частности, писал:
Ленинград, как представляется, лучшее место в России для формирования джазового музыканта. Это и в целом был стильный город. Музыкальным центром там был университет. Некоторые из музыкантов, с которыми мы встречались, были очень хорошими джазменами. На нас большое впечатление произвели Константин Носов и Геннадий Гольштейн. Носов был хорошо сложенный трубач с волевым подбородком, волнистыми светлыми волосами и откровенно весёлым нравом. Альт-саксофонист Гольштейн был стройным и тёмноволосым, с чёрными усами, обращёнными вниз у уголков рта, что придавало ему скорбный вид.
Когда американские музыканты улетали в США, Геннадий Гольштейн передал альт-саксофонисту Филу Вудсу ноты нескольких своих композиций и аранжировок, и в 1962-63 гг. некоторые из них были исполнены и записаны в Нью-Йорке американскими музыкантами.
ПОДРОБНЕЕ: 23-й выпуск подкаста «Слушать здесь», март 2006. Главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков комментирует пьесу Геннадия Гольштейна «Madrigal New York» с альбома «The Liberty of Jazz» ансамбля звезд американского джаза 1962 г., исполняющих музыку советских джазменов (SoLyd Records, 2006).

Квинтет солистов оркестра, во главе которого стояли Гольштейн и трубач Константин Носов, а на фортепиано играл Давид Голощёкин, был среди сильнейших ленинградских джазовых ансамблей и выступал на джаз-фестивалях в Москве и Таллине.
СЛУШАЕМ: Квинтет Гольштейна-Носова «Тема для Тимы»
В 1967 г. Гольштейн, вместе с большой группой других солистов вайнштейновского оркестра, перешёл в оркестр Эдди Рознера, базировавшийся в Москве.

Затем Геннадий Гольштейн был лидером группы саксофонов Концертного оркестра Всесоюзного радио п/у Вадима Людвиковского, а с 1972 по 1976 г. работал в оркестре Олега Лундстрема, в составе которого записался на альбомах «Серенада Солнечной долины» (1976) и «Памяти Дюка Эллингтона» (1977).

Резкая перемена произошла в творчестве Гольштейна в 1977-78 гг., когда он вернулся в Ленинград и… на два десятилетия оставил карьеру джазового исполнителя. От саксофона он в конечном счёте отказался совсем. Долгое время Геннадий Львович играл только старинную музыку на флейте и виоле да гамба с собственным ансамблем Pro Anima, с которым записал на «Мелодии» три виниловые пластинки в 1980, 1985 и 1987 гг. Но это не значит, что саксофон вообще ушёл из его жизни: с 1974 г. Гольштейн занялся джазовой педагогикой, возглавив класс саксофона сначала в училище им. Римского-Корсакова, а с 1978 — в музыкальном училище им. Модеста Мусоргского. Там среди его учеников были целые поколения джазовых саксофонистов, среди которых — Игорь Бутман. Михаил «Дядя Миша» Чернов, Игорь Тимофеев и др.

Только в 1997 г. Геннадий Гольштейн вернулся к джазовому исполнительству, теперь исключительно на кларнете. Он сконцентрировался на ранней свинговой и предсвинговой музыке 1920-30-х гг.: именно в этой стилистике выдержан его первый после возвращения на сцену альбом «Далёкие радости» (1997).
В 1998 г. он создал из своих учеников уникальный оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга», который, помимо ритм-секции, состоит только из саксофонов — и единственного кларнета, на котором играет он сам. Альбомы этого оркестра «Обречённые на счастье» (2000), «Саксофоны Санкт-Петербурга» (2005), «Настигнутые радостью» (2006), «Долина блаженных» (2009), «Улицы грёз» (2014) в основном содержат авторские аранжировки джазовой классики свинговой эры. Вместе с оркестром Геннадий Львович регулярно выступает в Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки, где в его концертах принимает участие художественный руководитель Джазовой филармонии, мультиинструменталист Давид Голощёкин.

ВИДЕО: Геннадий Гольштейн (вокал, кларнет), Давид Голощёкин (вибрафон), «Саксофоны Санкт-Петербурга» — празднование 70-летия Гольштейна, 25 января 2008, Филармония джазовой музыки
httpv://www.youtube.com/watch?v=Ve51tYcnn1U
В 2008, к 70-летию Гольштейна, «Джаз.Ру» выпустил в своей бумажной версии (№8/9-2008) интервью артиста, которое у него взял екатеринбургский джазовый журналист и радиоведущий Геннадий Сахаров. К 80-летию легендарного питерского джазмена мы с удовольствием делаем это интервью достоянием сетевых читателей. Редакция «Джаз.Ру» единодушно желает Геннадию Гольштейну долгих и продуктивных лет жизни!
Интервью Геннадия Гольштейна: «Бог разберётся»
| Геннадий Сахаров, Екатеринбург фото: архив «Джаз.Ру» |
 |
Весной 2008 года я получил e-mail из Лондона от своего старого ленинградского приятеля Ефима Барбана. Он рассказал мне, что был недавно в Санкт-Петербурге на презентации своей последней книги и посмотрел концерт джаз-оркестра Геннадия Гольштейна, состоящего из 25 саксофонов (!) и ритм-группы. Этот оркестр, его программа, но, прежде всего, качество музыки произвели на моего приятеля огромное впечатление. Просто сногсшибательное! А в чём, собственно, дело? Репертуар оркестра почти целиком состоит из ретро-джазовых хитов 30-40-х гг. прошлого века, частично знакомых старшему поколению по культовым американским фильмам послевоенных лет: развлекательно-музыкальному «Серенада солнечной долины» (с участием оркестра Гленна Миллера) и гангстерскому «Судьба солдата в Америке» (неувядаемые «It Had To Be You» и «Melancholy Baby»). Почти невероятным образом прорвавшись в своё время через «железный занавес», обе картины (особенно «Серенада»), помимо прочего, декларировали с помощью фирменного американского джаза заокеанский стандарт свободы.
[…]
Что касается самого Гольштейна, то его репутация звезды начала складываться ещё в середине 60-х годов прошлого века, в период расцвета второй волны советского джаза (если первую оставить за Александром Цфасманом, Леонидом Утёсовым и ещё несколькими до- и послевоенными ветеранами). Ленинградский джаз второй волны был во многом вторичен, даже в своем наиболее радикальном выражении. Геннадий Гольштейн прошел классическую школу «американизированного» мэйнстрима в свинговом оркестре Иосифа Вайнштейна (1918-2001). В этом оркестре Гольштейн был солирующим саксофонистом, аранжировщиком, автором нескольких джазовых тем в духе «песен советских композиторов» и, наконец, музыкальным руководителем квинтета внутри оркестра. Квинтет играл в стиле бибоп в точном соответствии с аналогичным форматом его отцов-основателей — Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи, а когда Голощёкин вставал из-за фортепиано и «выходил покурить», ансамбль перевоплощался в квартет Гольштейна (его тогда все называли Чарли — Геннадий «Чарли» Гольштейн) и Константина Носова (труба), а на самом деле — в квартет американского фри-джазового саксофониста Орнетта Коулмана, но с удивительно русскими названиями композиций: «На задворках», «Мужичок», «Нищий» и прочее в том же роде. Несмотря на очевидную вторичность этой музыки, её следует считать первым опытом исполнения авангардного джаза в Советском Союзе: помимо новой эстетики, она означала также очевидную оппозицию официальному (т.е. разрешённому) джазу и шире — официальной культуре в рамках коммунистической идеологии.
СЛУШАЕМ: квартет Геннадия Гольштейна — Константина Носова
Геннадий Гольштейн — альт-саксофон, Константин Носов — труба, Виктор Смирнов — контрабас, Станислав Стрельцов — ударные
«На завалинке» (Г. Гольштейн) — фрагмент записи выступления квартета на Московском джаз-фестивале 1967 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: слушаем 385-й выпуск подкаста «Слушать здесь» (2009).
Главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков о треках из архива советского джаза радиопрограммы «Радиоклуб Метроном», спасённого ведущим Аркадием Петровым (1935-2007) от уничтожения в 1973 г. Звучит пьеса Геннадия Гольштейна «Кумушки» в исполнении квартета Геннадия Гольштейна и Константина Носова (1970).
Вслед за оркестром Вайнштейна в судьбе Геннадия Гольшейна последовало ещё несколько биг-бэндов, в том числе самый престижный из них — Олега Лундстрема, а в середине 70-х до того непоколебимый джазмен неожиданно скрылся в средневековом тумане академического ансамбля старинной музыки Pro Anima и полифонии эпохи барокко, которая в соответствии с правилами игры своего времени предусматривала импровизацию — она-то и была «анимой» (т.е. душой, по-латыни) этой музыки.


В апреле 1999 г. я стоял возле одного из исторических зданий на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга в ожидании начала джазовой конференции, посвященной 100-летию Дюка Эллингтона. Неожиданно из ближайшего переулка появился невысокий, безупречно одетый господин изысканно–интеллигентного вида: тонкие чёрные усы, элегантное твидовое пальто, безупречная линия мягкой велюровой шляпы, модное кашемировое кашне… В руках он держал два тонких кожаных поводка, на концах которых вибрировали холёные таксы в одинаковых собачьих костюмах. Господина звали Геннадий Гольштейн. Я представился и напомнил ему о нашей свердловской встрече почти 30-летней давности, а Геннадий Львович, в свою очередь, поведал, что собирается вернуться в джаз. В этот момент таксы натянули поводки, и один из последних представителей петербургского барокко продолжил утреннюю прогулку.
На пороге XXI века Геннадий Гольштейн действительно вернулся в джаз с идеей большого саксофонного оркестра и программой фирменного ретро-джаза… и круг этого очерка, таким образом, замкнулся: Ефим Барбан порекомендовал мне пригласить в Екатеринбург оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга», восхитительно воспроизводящий старомодный, но «вечнозелёный» американский джаз. Почти через десять лет после памятной встречи на Исаакиевской площади я снова начинаю разговор с Геннадием Львовичем, которому 25 января 2008 исполнилось 70, с напоминания о встрече в Свердловске — только давность сменилась на почти 40-летнюю.

Ваша музыкальная карьера началась в первой половине 60-х в оркестре Иосифа Вайнштейна. Довольно странный бэндлидер: не играл ни на одном инструменте, не писал аранжировок, не сочинял композиций… Что это за фигура, Иосиф Вайнштейн, который был невероятно популярен? Что он сделал в джазе?
— Вайнштейн представлял из себя смесь Макиавелли с Александром Матросовым. Он был стеной, за которой, в резервации, музыканты могли вызреть. У него хватило проницательности и ума взять нас всех, послушаться нашего мудрого друга, баритониста Жоржа Фридмана, который убедил Вайнштейна взять нас. Мы существовали абсолютно нелегально — это ведь было время процесса [Иосифа] Бродского (поэта, осуждённого в 1964 г. на ссылку за «тунеядство», то есть за факт, что он писал стихи, сидя дома, и не числился ни в одной официальной советской организации. — Ред.), и нам всем грозила высылка. Полтора года до этого мы существовали на вольных хлебах, играли по институтам, проектным организациям. У нас был хороший состав: пять саксофонов, труба, тромбон и ритм. Но однажды назрела ситуация, когда это закончилось. Организовалась официальная структура Отдела музыкальных ансамблей, потом Ленконцерт, и они устраивали облавы на нас. Однажды мы играли в Доме журналистов, нас поймали, перевели через Невский, вызывали по одному к секретарю горкома комсомола и угрожали. Мне секретарь сказал, что «если бы ты жил во времена Павлика Морозова, мы бы тебя расстреляли». И у Вайнштейна хватило мудрости и проницательности постепенно нас всех взять. Он пошёл на колоссальную реформу, устроил всех своих музыкантов в разные оркестры и взял нас. И там образовалась такая резервация, где мы могли что-то делать, самообразовываться, приобретать опыт, фразировку, вынашивать планы. Здесь вообще была идеологическая ситуация: песни были советские, бальные танцы — отвратительные, а среди этого — Стэн Кентон или Гил Эванс, до которого мы докатились на танцах… Гил Эванс, представляете? Просто Вайнштейн чувствовал, что мы делаем правильные вещи, нам не мешал, и в этом его величайшая заслуга. Он был человек энергичный, умевший контактировать с номенклатурой, афористического склада, типа итальянского, что-то вроде [итальянского актёра-комика] Альберто Сорди. Он приходил в разные кабинеты, убеждал, жестикулировал.
Но это было «поставлено» или от души?
— Нет, нет, это искренне было, у него ведь никогда раньше не было такого оркестра. Он был абсолютно органичен и многого добивался, ведь обстановка была очень накалена, потому что людям с трудом удавалось танцевать под наши эксперименты (смеётся), и они приходили в оторопь. Директор ДК им. Первой пятилетки, когда заходил к нам, был в ужасе.
А когда начали разрешать джаз, вы стали работать на легальном уровне и даже записывать пластинки, Вайнштейн тоже сыграл какую-то роль, чтобы эти записи «продвинуть»? Ведь одно дело записать, а другое — чтобы это дошло до публики.
— Я думаю, что самое большое влияние на Советский Союз и на советский мелос оказали пластинки, которые выпускали в 30-е годы — Генри Холл, Гарри Рой, братья Миллс — вот это имело самое глубокое и сильное влияние на население, потому что люди чувствовали благородство мелодии, видели очень хорошее качество. А нам было очень трудно добиться хорошего качества в тот период, потому что не было никаких контактов.

Мне кажется, что сам факт выхода джазовых пластинок в то время уже был очень важен, а какая там была музыка — дело второе.
— Я это не отрицаю. В смысле политическом, историческом — это было важно. Для музыкантов, которые в этом участвовали, для какой-то части публики — это было важно. Важно для того, чтобы музыканты выросли… Это был стимул, мобилизующий людей что-то чётко сформулировать, выйти из хаоса в некое организованное пространство.
Вернёмся к вашему квартету 60-х с трубачом Константином Носовым. Почему вы не стали развивать фри-джазовое направление, искать собственный язык?
— Кончилось это тем, что я написал большую сюиту, посвященную Коулману. Она называлась «Ужасный человек». Я понял, что это тупиковый путь, и оставил это дело. Первые пластинки Коулмана меня вдохновляют и радуют, там много юмора, много подлинности и наивной интерпретаторской смелости, но потом и у самого Коулмана это зашло в тупик. Просто ушло, как вода в песок. После трёх первых пластинок он стал играть менее интересно. Но я никого не хочу обвинять. К этому времени у меня произошел кризис отношений с джазом: я влюбился в старинную музыку… хотя Коулман оставался для меня новатором, но новатором совсем других эмоций, измерений нравственных и музыкальных. Я видел, что его конструкции очень оригинальны, его темы до сих пор поражают меня своей оригинальностью.
И всё-таки вы увидели тупик в этом пути?
— Во-первых, это было связано с моим религиозным созреванием…
Может быть, в том смысле, что джаз уводит человека от бога, а фри-джаз в особенности?
— Да, сначала я так и решил — некая такая обитель бесовщины. Но сейчас я думаю, что Бог так располагает события в жизни человека, что человек идет через области культуры или своего сознания… и меняется, понимая, что всё, что было раньше, необходимо. Я не уехал, стал заниматься на виоле-да-гамба, создал ансамбль старинной музыки Pro Anima… И всё средневековье, которое мне открылось и которого я не знал, баховский период… Я считаю, было величайшим благом, что я остановился и занялся этой областью музыкальной и духовной жизни.
А нельзя ли было связать фри-джаз, который вы начали играть, с интересом к старинной музыке, т.е. связать бога с бесовщиной? (смех)
— Что за ересь, дорогой мой! Бог допускает человека пройти через какие-то испытания для того, чтобы сознание созрело. Я сейчас смотрю и на Орнетта Коулмана по-другому, и на старый джаз по-другому. Я всегда это любил, но оценки этих событий изменились, добавились какие-то образы, пробудились новые симпатии. Конечно, отчасти это ностальгия, потому что наступил такой возраст… Как написал мне в письме [американский исследователь советского джаза] Фред Старр, когда я ему послал наш диск (уже после старинной музыки, когда я стал писать мелодии в стиле Гершвина и ранних фокстротов): «Эти мелодии замечательны, и они являют собой прекрасный пример фрейдистского кульбита из вашего детства. Это чистая ностальгия. Ностальгия — это переживания прошлого, причиняющие боль и иногда превозмогающие все впечатления настоящего».
Продолжая линию вашей биографии, я хотел отметить ещё один штрих, что после оркестра Людвиковского вы играли в оркестре Олега Лундстрема, который как бэндлидер, как джазовый человек был покруче Вайнштейна. Что дала вам работа в этом оркестре?
— Ну, во-первых, сам Лундстрем был очень хорошим человеком и музыкантом, и его брат Игорь, и все «шанхайцы», которых я тогда не мог по достоинству оценить и только потом открыл их для себя. Они были хорошие музыканты, очень ответственные люди, верующие. И это сказывалось на их музыкальном взгляде на мир, на их отношении к людям, на их отношении к нам. Они не были компанией «хамья» — это очень важный момент, потому что мы тогда были довольно дикие люди… невоспитанные — родители с ужасом умалчивали историю страны, никогда не говорили о том, что происходило. Единственным воспитательным моментом были разговоры между собой, наблюдение окружающего мира и, может быть, людей чуть старше себя.
Ну, хорошо, вы разочаровались в фри-джазе, в той эволюции, которую джаз прошёл, и, допустим, в «последующем» Орнетте Коулмане — это всё можно понять. Но ведь вы могли вернуться к той модели, которую вы играли с Вайнштейном?
— А я и в этой модели разочаровался, модели позднего свинга. Мы ведь [у Вайнштейна] играли форму довольно развитую, все были поклонниками Тэда Джонса, Стэна Кентона, а те оркестры, которые я слушал в детстве, та эпоха 30-х годов — я их очень любил, это всё во мне жило, но я даже не думал о них какое-то время. И когда я оставил джаз, параллельно всплыли симпатии к тем самым оркестрам, причем они всплыли мелодически. Я не хочу «идолофицировать» и говорить, что это золотой век. Хотя это был действительно золотой век, мелодически — золотой век, хотя в Германии созревал фашизм, в России — ГУЛАГ, а в Америке — Депрессия… В смысле жизни — это как будто бы ужасно. А в музыкальном смысле — время просто поразительное: этот хрупкий слой мечтателей, которые написали все лучшие мелодии, которыми с тех пор живёт музыкальный мир. Я это называю «долиной блаженных». Эти композиторы, музыканты, конечно, не были ангелами, но сейчас, издалека это выглядит как… не Эдем, но блаженная компания людей… оазис, из которого, как из рога изобилия, изливались эти мелодии. А сейчас появляется одна мелодия в год, и хорошо, если она появится. Я каждый день молюсь за Бенни Гудмана, Арти Шоу, Гленна Миллера…
…после чего садитесь за нотный лист и пишете, пишете…
— Да нет, был у меня такой период, когда я много писал своей музыки в таком духе, но он закончился, что-то вдруг прекратилось. Я помню, как я со своими собаками выходил на улицу и каждый раз, возвращаясь, приносил домой мелодию. А сейчас ничего нет, вот уже года три-четыре.
Насчёт того, что это оазис, долина мечтателей — вообще любопытная история. Означает ли она, что искусство на самом деле не жизнь отражает, как любили говорить марксисты, а живёт мечтой?
— Это абсолютно точно.
А какова жизнь на самом деле — искусству по большому счету наплевать?
— Безусловно, так. Александр Мень сказал: злые силы бушуют — значит, мы на верном пути.
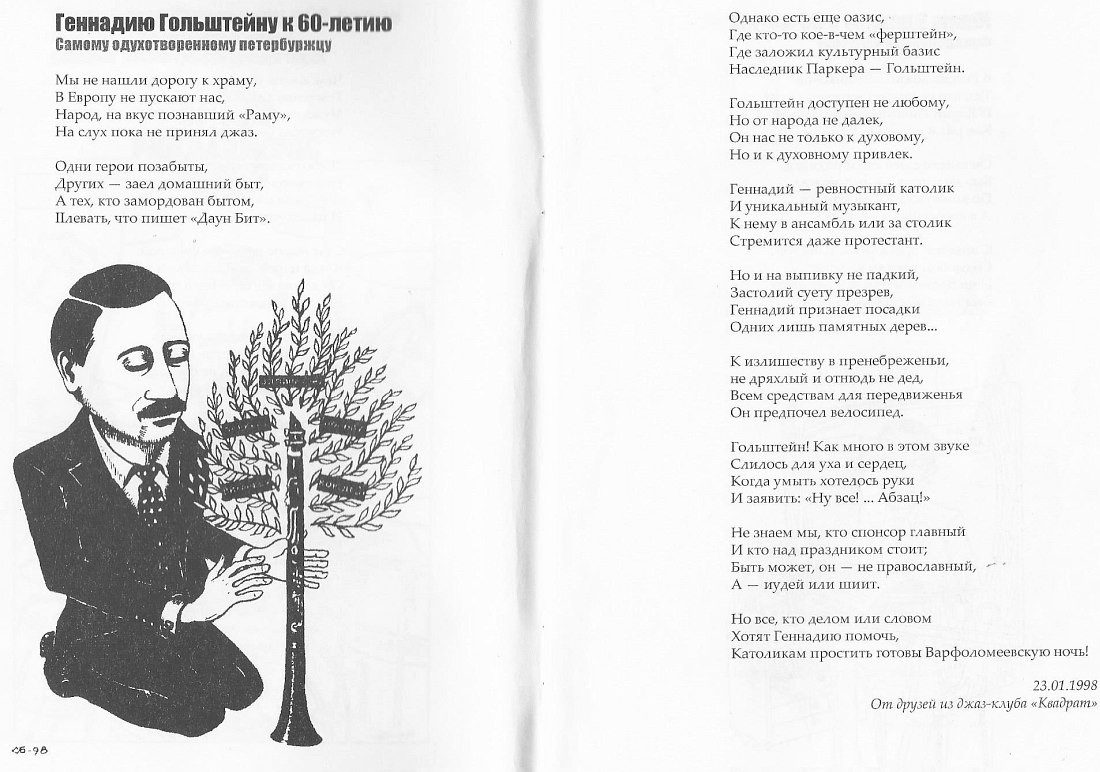
Поэтому большая часть публики обычно уходит с серьёзных концертов.
— Я тоже исповедовал такую концепцию: искусство все равно остается элитарным. Те, кто докатились до этого — останутся. Я хочу сказать, что любой человек, даже музыкант, когда слушает новую музыку, воспринимает всего около четырёх процентов, и так везде в мире. Это статистика. Для того, чтобы полюбить, надо долго слушать, входить в образ, как говорят в театре. Для того чтобы понять вкус красного вина, надо попробовать разные сорта, и тогда ты скажешь — вот это хорошо, а это лажа.
В 1978 году вы решили покинуть джаз и организовали ансамбль средневековой музыки Pro Anima. Ну, anima — это душа, значит, вы имели в виду некую духовную составляющую?
— Да, «Для души».
В вашем ансамбле практиковалась импровизация?
— Все эти композиторы были колоссальными импровизаторами — сыновья Баха и сам Бах, французы, итальянцы — они были импровизаторы. Они свои вещи сначала разыгрывали, потом записывали. В основном импровизировались рефрены, например, если это повторяющаяся форма, то сначала она излагается (как в джазе), а потом на это накладываются собственные украшения, каденции, но, безусловно, это не джазовые вольготные пространства, которые заполняются на 40 минут, а потом люди, как пиявки, отваливаются, насытившись. Это было, безусловно, гораздо строже, но простор для индивидуальностей оставался.
Я подумал, что, если у вас практиковалась импровизация, то она могла быть связана с прежними джазовыми интересами, а после возвращения в джаз часть этой «анимы» вы перенесли туда.
— Вся картина моего возвращения и концертов [проекта «Обречённые на счастье»], которые мы сейчас даём, отчасти ностальгическая, картина человеческих образов, симпатий, пристрастий. А самое главное, что эта картина меня до сих пор мелодически восхищает. Ещё меня подкупает, что [в музыке 30-х] сохранялось чувство юмора — не сарказма, не какого-то кривляния и стёба; там присутствуют какие-то очень смешные звери, мне симпатичные… Я не грущу по той эпохе, у меня нет грусти и сожаления. Я просто с радостью вижу этот источник, который ко мне даже не имеет отношения. Они же в основном это делали для себя, хотя, может быть, и для меня. Они писали то, что любили, и эта любовь порождала плоды. Это дерево, которое плодоносило.
А не означает ли это, что вы относитесь к этой музыке и эпохе как к музею? Это ведь здорово — прийти в музей, а когда выходишь из него, оказывается, что жизнь-то совсем другая!
— Ну и пускай другая. Меня не интересует, что другая, достаточно, что я это люблю. Это целый мир!
Таким образом мы подошли к вашему оркестру, идея которого выкристаллизовалась из вашей любви к старому, сентиментальному джазу. Но почему 25 саксофонов?
— Дело в том, что параллельно с ансамблем старинной музыки я преподавал саксофон в колледже имени Модеста Мусоргского в Петербурге. Надо было как-то жить.
Джазовый саксофон?
— Да. Джазовый.
Значит, вы лукавили, говоря, что полностью ушли из джаза.
— Нет, почему лукавил? Я помогал каким-то пацанам, ставил их на ноги. Я прекрасно понимал по своему собственному жизненному опыту, что мальчик может начать с рок-н-ролла, а дойти до Арво Пярта… до Сильверстова и Кнайфеля…
Кстати, неплохой вариант эволюции.
— Прекрасный. Человек даже может быть убийцей — а стать святым. Поэтому надежда никогда не должна оставлять человека. Ведь он пришел учиться, взял саксофон — это означает, что у него есть искра любви. Я на своей судьбе это испытал и знаю.
И эти 20 или 25 саксофонистов — ведь пришлось переписывать аранжировки, может быть даже перестраивать своё сознание?
— Нет, дело в том, что в этом участвует [опыт, который дала] старинная музыка, ведь я много анализировал хоровые партитуры. У нас в Pro Anima был не только инструментальный ансамбль, а ещё и камерный хор с двумя старинными тромбонами. Полифоническая музыка, хоральная, и когда все закончилось (а закончилось довольно триумфально, потому что мы съездили в Америку, Италию, Германию) — наступил 90-й год, магазины опустели, все стали бегать, как мыши, находя пропитание… И потом мы ведь этим составом сделали всё, что могли, на остальное у меня уже и пороха не хватало. Всё естественно пришло к этому финалу: дерево выросло, завтра не приходите. И вот в эту нишу и хлынули какие-то старые мелодии…
…которые вы держали где-то в заначке?
— Они рядом были. Даже когда я занимался старинной музыкой, то собирал эти пластинки на 78 оборотов. И подумал, а почему бы не устроить такой инструментальный хор из саксофонов, именно по хоровому принципу, присоединив ритм-группу. Тем более, что эти мелодии меня просто терзали, и я хотел, чтобы они звучали.
Ну, а аранжировки для такого оркестра, вы, наверное, тоже делали по хоровым правилам? Потому что саксофонный оркестр требует определенных правил голосоведения, даже структуры, потому что в обычном свинговом биг-бэнде — это перекличка инструментальных секций. А здесь что перекликается?
— Для того, чтобы сделать такую перекличку, мы ввели певиц: они замещали медь, т.е. меняли окраску. А вообще я старался писать просто, ведь возможности репетировать у нас нет, мы выступаем как гомеопаты — раз в месяц. И слава Богу, что это гомеопатия, потому что она-то и действует. Если бы мы стали официальным оркестром — мы бы тут же маразмировали и деградировали со страшной силой. Это превратилось бы в службу, и всё бы просто умерло.
Так какой у вас статус?
— А никакого. Мы просто собираемся раз в неделю, а раз в месяц выступаем.

А кто даёт деньги?
— Ну, деньги такие же, как и у других, кто выступает у Додика (Давид Голощёкин. — Авт.) в Джазовой филармонии. А деньги на выпуск наших дисков дали любители, те, кому эта музыка очень нравится. Как-то пришли на концерт и сказали: «Ребята, мы раньше тоже спонсировали джаз, но поняли, что спонсировали не тех». Я знаю этих людей и знаю, что они дали деньги от чистого сердца.
Ну, а репертуарная концепция вашего оркестра — все эти мелодии, ретро-джаз…
— Это не ретро, это вечный, золотой фонд, Стабфонд (смеётся).
Ну, и что из этого: ведь в современной жизни столько проблем, такое напряжение, а тут оазис… Может быть, это просчитанный ход, потому что такая музыка сегодня достаточно востребована, и в основном состоятельными людьми?
— Когда мы десять лет назад это начинали, никем это не было востребовано. То, что сейчас у некоторых людей открываются глаза… Эта музыка, конечно, буржуазная… Потом ещё возникают проблемы интоксикации организма — люди отравились, они требуют дать глоток воды, кусочек хлеба, а им протягивают камень. Он говорит: «болят мои раны», — а ему сыплют соль. И сейчас много таких людей, в том числе и обеспеченных. Им нравятся наши мелодии, и музыкантам тоже нравятся.
Тогда это означает совпадение ваших музыкальных интересов и востребованности этой старой музыки.
— Я связываю это с экологическим отравлением музыкальной среды — это настолько очевидно, хотя вначале я об этом, честно говоря, не думал. Это произошло случайно, я собрал ребят, написал несколько аранжировок. На первом нашем выступлении, когда мы играли «Melancholy Baby», у [Владимира] Фейертага даже слезы брызнули.
Название вашей программы меня всё-таки удивило: «Обречённые на счастье». Я подумал: молодые ребята и девушки в костюмах XXI века «обречены на счастье» играть старую сентиментальную музыку? Это некий нонсенс! Может быть, это вы, Геннадий Львович, «обречены на счастье»?
— Я-то уж точно обречён. Некоторые из ребят разделяют это со мной, а некоторые — активно бунтуют: «почему нет фанка!?». Я отвечаю: «Ребятки, это в другом месте, это без меня». Если человек музыкальный, то, что бы он ни любил — фанк, Ганелина с Чекасиным или Орнетта Коулмана — он все равно оценит это, увидит, что это драгоценность, шедевр. Ведь нельзя сказать, что «In A Sentimental Mood», «Sophisticated Lady» или «Body and Soul» или «Manhattan» — это пустышки! Это потрясающие мелодии, которые находятся на уровне Шумана, Шуберта. Написать хорошую мелодию — это самое трудное для музыканта, божественная инспирация и, если нет любви, ничего не получится. Никакие инвестиции не помогут.
Чарли Мингус считал, что музыка должна кусать и царапать, а Эллингтон — что успокаивать и умиротворять.
— Поэтому в период экономической депрессии мы будем на коне. Я думаю, не надо стыдиться, что это американская музыка: все умерли, зачем пинать мертвого льва. Мы не сказали самого главного: какое отношение имеет Россия ко всей этой истории. Бог провел такую спецоперацию, что чекистам и не снилось! Пятилетние агенты уехали из России в Америку: Ирвинг Берлин из Тюмени, Вернон Дюк — Владимир Дукельский, друг Прокофьева (из Пскова), Джордж Гершвин, Бенни Гудман и Арти Шоу из предместья Варшавы, Шелтон Брукс из Одессы, Николай Бродский из Москвы — и вот там они сделали свое дело. Теперь эти мелодии сюда вернулись, это же колоссальный культурный мост, колоссальная прививка, ведь всем, что было сделано Дунаевским в 30-е годы, мы обязаны Америке. Об этом надо спокойно сказать. Это самые лучшие музыкальные измерения российского мелоса.
Наверное, в заключение вы согласитесь со мной, что должна существовать и та и другая музыка, которая «кусает и царапает» — и «успокаивает и умиротворяет».
— Да, всё, конечно, должно существовать, и пшеница и плевелы — до судного дня; Бог разберётся.
ВИДЕО: Геннадий Гольштейн, Яна Радион, «Саксофоны Санкт-Петербурга» — «It Had To Be You». Фрагмент фильма-концерта «Обречённые на счастье» (реж. Юрий Занин, 2007)
httpv://www.youtube.com/watch?v=A1l3tGZMSSY






![В Шереметевском дворце Петербурга продолжается цикл концертов «Salon de musique [солёный мужик]» «Salon de musique [солёный мужик]»](https://www.jazz.ru/wp-content/uploads/2024/11/salon-218x150.jpg)
Умница, чудак, интеллигент, честный человек Геннадий Гольштейн.
Просто не могла оторваться от чтения! Как хорошо,что в нашем jazz community есть такие люди, как Геннадий Гольштейн! С юбилеем и долгая лета!
А Вам, Кирилл, спасибо за профессионализм и энтузиазм!
Дорогой Гена! Весь день тебя вспоминаю! Оставайся молодым!
Великий человек и музыкант!!!
Спасибо Вам!