| Диана Кондрашина (предисловие и перевод) |
 |
![]() В апреле нынешнего года мне посчастливилось выступить с докладом об истории и современности российской джазовой сцены на международной конференции в Манчестере «Rethinking Jazz Cultures» («Переосмысление джазовых культур»), которую всего несколько лет назад начал ежегодно проводить молодой факультет джазовых исследований в университете Салфорд. Конференция длилась три дня и была организована в виде беспрерывных параллельных сессий, тематически разделённых — так что делегатам чаще всего приходилось разрываться между сессиями и то и дело сбегать прямо посреди обсуждений, чтобы успеть в соседнюю аудиторию на интересующий доклад. Примечательно то, что на конференции собрались люди самых разных специальностей: музыканты, промоутеры, редакторы новостных порталов, аспиранты из Европы и Америки, а также профессора — музыковеды, исполнители, историки. Среди выступавших был и наш бывший соотечественник, обозреватель международной службы радиостанции BBC, автор книг об истории нового джаза в СССР Александр Кан, с которым мы, по воле случая, на пару рассказывали об истории джазовой музыки в России. На конференции затрагивались самые разные вопросы: что понимать под понятием «джаз» в эпоху после Уинтона Марсалиса? Каково будущее авангардного джаза? Как выжить джазовому сообществу в объединённой Европе? Конечно, увиденное и услышанное требовало бы детального отчёта, если бы не огромное разнообразие полученной информации, которое довольно трудно систематизировать. Однако был на конференции доклад — один из двух ключевых, на которых присутствовали все участники. На мой взгляд, этот доклад сразу поставил под сомнение преобладающий среди исследователей подход к изучению «регионального» джаза и предоставил пищу для ума ещё на многие месяцы вперёд. Возможно, именно поэтому только сейчас я наконец стремлюсь поделиться этой работой с читателями «Полного Джаза 2.0» на русском языке. Я уверена, что она станет стимулом переосмыслить и переоценить наш подход к тому, что мы называем «российский джаз», и даст очередной повод обсудить проблематику вопроса, которая и без того вызывает самые жаркие дискуссии в джазовом интернет-сообществе.
В апреле нынешнего года мне посчастливилось выступить с докладом об истории и современности российской джазовой сцены на международной конференции в Манчестере «Rethinking Jazz Cultures» («Переосмысление джазовых культур»), которую всего несколько лет назад начал ежегодно проводить молодой факультет джазовых исследований в университете Салфорд. Конференция длилась три дня и была организована в виде беспрерывных параллельных сессий, тематически разделённых — так что делегатам чаще всего приходилось разрываться между сессиями и то и дело сбегать прямо посреди обсуждений, чтобы успеть в соседнюю аудиторию на интересующий доклад. Примечательно то, что на конференции собрались люди самых разных специальностей: музыканты, промоутеры, редакторы новостных порталов, аспиранты из Европы и Америки, а также профессора — музыковеды, исполнители, историки. Среди выступавших был и наш бывший соотечественник, обозреватель международной службы радиостанции BBC, автор книг об истории нового джаза в СССР Александр Кан, с которым мы, по воле случая, на пару рассказывали об истории джазовой музыки в России. На конференции затрагивались самые разные вопросы: что понимать под понятием «джаз» в эпоху после Уинтона Марсалиса? Каково будущее авангардного джаза? Как выжить джазовому сообществу в объединённой Европе? Конечно, увиденное и услышанное требовало бы детального отчёта, если бы не огромное разнообразие полученной информации, которое довольно трудно систематизировать. Однако был на конференции доклад — один из двух ключевых, на которых присутствовали все участники. На мой взгляд, этот доклад сразу поставил под сомнение преобладающий среди исследователей подход к изучению «регионального» джаза и предоставил пищу для ума ещё на многие месяцы вперёд. Возможно, именно поэтому только сейчас я наконец стремлюсь поделиться этой работой с читателями «Полного Джаза 2.0» на русском языке. Я уверена, что она станет стимулом переосмыслить и переоценить наш подход к тому, что мы называем «российский джаз», и даст очередной повод обсудить проблематику вопроса, которая и без того вызывает самые жаркие дискуссии в джазовом интернет-сообществе.
Автор доклада — американский профессор истории в Университете Северного Иллинойса, востоковед, автор книги «Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan» об истории джаза в Японии — И. Тэйлор Аткинс. Перевод выполнен с несущественными сокращениями.

ДАЛЕЕ: перевод доклада И. Тэйлора Аткинса о взаимодействии национальных музыкальных культур и джаза.
И. Тэйлор Аткинс. «Давайте назовём это». Пародаксальная платформа для международного изучения джаза
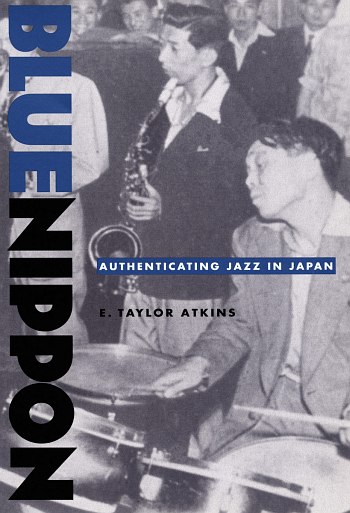 В течение нескольких лет после выхода в 2001 году моей книги «Ниппон-блюз: определение джаза в Японии» («Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan») меня приглашали выступать на тему джаза в Японии в колледжах и университетах в США. Чаще всего мне приходилось слышать от аудитории следующие вопросы в различных формулировках: «Отличается ли японский джаз от американского джаза?» или «Что японского в японском джазе?» Последнее моё выступление на эту тему в одном колледже близ Чикаго в январе 2008 г. вызвало мирную, но довольно бурную дискуссию. Я столкнулся с неприятием и критикой моего основного подхода — стремления разрушить обманчивые представления о том, что аморфное понятие «японская культура» определяет, как должны исполнять джаз японские музыканты. «Как может их культура не оказывать на них влияния или не придавать их музыке определённого звучания?» — спрашивали меня скептики. Я отвечал: нет единого мнения, что именно в первую очередь определяет «японскую культуру», и большинство музыкантов, с которыми я имел дело, настолько погружались в европейскую и американскую популярную музыку, что были полностью отчуждены от местной музыкальной традиции и не имели о ней ни малейшего представления. Те джазовые музыканты, которые предпринимали попытки освоить репертуар, инструментовку, гаммы и тональные системы, тембры или другие формы [японских] традиционных жанров, могли преуспеть в этом только после изучения [японских] музыкальных стилей, которые были для них не менее экзотическими, чем для музыкантов неяпонского происхождения. Более того, эти эксперименты происходили на периферии джазовой жизни в Японии; большинство музыкантов и слушателей считали эти эксперименты неуместными ухищрениями. Когда я закончил, один преподаватель сказал мне с улыбкой: «Это не то, что я ожидал от этой встречи», — не уверенный в том, разочарование ли он испытал.
В течение нескольких лет после выхода в 2001 году моей книги «Ниппон-блюз: определение джаза в Японии» («Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan») меня приглашали выступать на тему джаза в Японии в колледжах и университетах в США. Чаще всего мне приходилось слышать от аудитории следующие вопросы в различных формулировках: «Отличается ли японский джаз от американского джаза?» или «Что японского в японском джазе?» Последнее моё выступление на эту тему в одном колледже близ Чикаго в январе 2008 г. вызвало мирную, но довольно бурную дискуссию. Я столкнулся с неприятием и критикой моего основного подхода — стремления разрушить обманчивые представления о том, что аморфное понятие «японская культура» определяет, как должны исполнять джаз японские музыканты. «Как может их культура не оказывать на них влияния или не придавать их музыке определённого звучания?» — спрашивали меня скептики. Я отвечал: нет единого мнения, что именно в первую очередь определяет «японскую культуру», и большинство музыкантов, с которыми я имел дело, настолько погружались в европейскую и американскую популярную музыку, что были полностью отчуждены от местной музыкальной традиции и не имели о ней ни малейшего представления. Те джазовые музыканты, которые предпринимали попытки освоить репертуар, инструментовку, гаммы и тональные системы, тембры или другие формы [японских] традиционных жанров, могли преуспеть в этом только после изучения [японских] музыкальных стилей, которые были для них не менее экзотическими, чем для музыкантов неяпонского происхождения. Более того, эти эксперименты происходили на периферии джазовой жизни в Японии; большинство музыкантов и слушателей считали эти эксперименты неуместными ухищрениями. Когда я закончил, один преподаватель сказал мне с улыбкой: «Это не то, что я ожидал от этой встречи», — не уверенный в том, разочарование ли он испытал.
Такая реакция продемонстрировала, насколько живуча концепция «культуры» как понятной и действенной системы, которая легко согласуется с различными идеями и поведением. Я хочу подчеркнуть, что моя речь была адресована интеллектуальной аудитории, сплошь состоявшей из кандидатов наук. Они настаивали на своём праве верить в нечто всеобъемлющее под названием «японская культура», которая определяет художественный подход японских музыкантов к музыке. Я же, в свою очередь, работал с более близким мне понятием «культуры»: культура как идея — но не та, с которой мы все обязаны соглашаться, а идея, которую мы все считаем важным отстаивать. К примеру, все американцы ценят «свободу», но когда возникает необходимость определить, что же такое свобода, как её обрести и как сохранить, американцы ввязываются в непримиримые споры. Аналогично можно сказать, что сыновняя почтительность — необходимый элемент восточных конфуцианских культур; однако что именно подразумевать под сыновней почтительностью, могут рьяно обсуждать поколения отцов и детей. Речь не обязательно о несоответствии культурных идеалов и реального поведения людей; речь о том, что единые культурные ценности могут охватывать самые различные идеи и манеры поведения.
Понимание сущности культуры формирует научный подход, который, я полагаю, должен быть осознан, объяснён и переосмыслен при изучении джаза. Чего эта молодая наука должна избегать, так это нагромождения многочисленных «джазовых национализмов», которые воплощают идею о национальных чертах определённых народов. Они могут оправдывать мнение, что джаз в Японии должен звучать по-японски, а если он не звучит таковым, то это всего лишь блёклая имитация чего-то более значимого, что изначально создали американские музыканты. С моей точки зрения, джаз — идеальный механизм для того, чтобы разрушить двойственное суждение, которое постулирует, что основой индивидуального высказывания должно быть нечто под названием «культура».
Как историк, изучающий Восток, я знаком с давней идеей того, что двойственность — принцип «западного» мышления, в то время как холизм (философский подход, выраженный словами Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей». — Ред.) — удел «восточного» мышления. Как ни странно, это и есть одно из тех двойственных суждений, которые возникли по инициативе людей с Запада! Восточный монизм, противопоставленнный западному дуализму; восточная духовность против западного материализма — всё это крайние средства, которые использовали националисты против колониализма, чтобы утвердить моральное превосходство над европейско-американскими империалистическими угнетателями. «Не-двойственность» (адвайта) проповедовали такие культурные светочи, как Свами Вивекананда и Рабиндранат Тагор из Индии и Окакура Какудзо из Японии, в качестве альтернативной — и типично азиатской — гносеологической позиции. Она даже стала частью военной пропаганды 1940-х и воплотилась в слогане: «Наш дух против их стали!» Эта формула, конечно, не касается монистических традиций в Европе и двойственности в Азии, но суть кроется не в том.
В традиции моей веры, веры Бахаи, нас учат, что есть только одна Истина, хотя шансы достичь её ничтожно малы и на поверхности могут казаться противоречивыми. «У истины много аспектов, — говорил Абдул-Баха (Аббас-эфенди, 1844-1921), — но она навсегда остаётся единой». <…>
В связи с этим я хотел бы подчеркнуть императив для джазовых исследователей: стараться употреблять формулировку «и то, и другое» вместо «то или это»; или, другими словами, занимать парадоксальную позицию по отношению к их теме, которая в конце концов, верится мне, больше способствует истинному пониманию вещей. Парадокс, о котором я говорю, следующий: джазовый исследователь должен помнить о соответствии и несоответствии времени, места и культуры при изучении музыки в различном контексте.
Полагаю, что первая часть данной формулировки не вызывает вопросов, но я в любом случае поясню. Большая часть моей работы на тему джаза была сосредоточена на том, чтобы пролить свет на связи между джазом, с одной стороны, и географическими, историческими и культурными факторами — с другой. Что происходит с музыкой, которую считают типично американской, когда её слышат, играют и обсуждают где-либо в другом регионе и ссылаются на те культурные идеалы, которые могут не согласоваться её первоначальными идеалами? С другой стороны, что происходит с обществом, с его политической и культурной жизнью, когда в него вступает джаз?
Когда погружаешься в эти вопросы глубже, обнаруживаешь, что стилистическая эволюция жанра и история индивидуальностей, которые его развили, не имеет ничего общего с центральной идеей этой музыки, а то и полностью не соответствует ей. Расовый вопрос, ставший столь насущным в джазовой историографии, более ли менее проясняется, когда рассматриваешь его на расстоянии… и пропускаешь сквозь призму империализма, фашизма, национализма и коммунизма. Ведь в XX веке джаз был единственным явлением, когда чёрные и их культурная жизнь вдруг становились символом Америки.
Так называемое «новое изучение джаза» берёт свой язык из международной социологии и культурологии и чаще всего изучает формы художественной экспрессии в локальных разновидностях. При этом чаще всего исследователи и энтузиасты-самоучки вынуждены устанавливать первоначальные данные: кто играл, что, где, когда и как, — а затем, исследуя влияния, строить генеалогические схемы, которые зачастую приводят обратно к США. Но в большинстве случаев широкие политические, социальные и культурные вопросы — всего лишь фон для повествования о жизни и деятельности значимых исполнителей. Подобные исследования — несомненно важные первые шаги в осознании местной джазовой традиции, но если они способны сказать о джазе как о социокультурном феномене совсем мало, они не могут привить определённую музыку на конкретной земле.
Некоторые американские авторы довольно легкомысленны в своей убеждённости, что весь мир разделяет их понимание того, как и зачем должны играть джаз. Не всегда, но часто они ошибаются, когда проецируют на других собственное видение таких понятий, как свобода, индивидуальность и самовыражение. Иногда, к слову, дисциплина, конформизм и национализм могут быть «посланием» джазового выступления — и пример совсем близко, в открытом космосе, где Сан Ра культивировал дисциплину, а не свободу.
Определённо, были и такие люди — слушатели и исполнители в равной степени — из социалистического блока Восточной и Центральной Европы, из Южной Африки и Китая, которые искренне верили, что музыка, которую они слышат в программе Уиллиса Коновера «Jazz Hour» на волнах радио «Voice of America», передаёт личную свободу, которой они в своих странах были систематически лишены. «Джаз — это музыка людей, которым условия внушили, что они ничего не стоят, — утверждал джазовый критик Мартин Уильямс в конце 1960-х. — И с джазом эти люди обнаруживают собственную значимость». Эмигрант из Южной Африки журналист Льюис Нкоси пишет о том же самом в элегии, которая посвящена джазовой сцене его страны: «Это музыка, которая возникает из небезопасной жизни, для которой момент осознания себя, любви, света и движения значительно важнее, чем сама жизнь. Из существования, в котором насилие повсеместно, а человек скрывается от полицейской пули только для того, чтобы попасть на нож африканского головореза, возникает взбудораженный звук, прославляющий то, что должен прославлять джаз: момент любви, страсти, мужества, наслаждения благами, момент жгучих танцев, когда сейчас — это, возможно, единственное, что у тебя осталось».
Тем не менее, джаз не мог быть повсеместно принят как агент социальной или индивидуальной эмансипации. Критик франкфуртской школы Теодор Адорно осуждал джаз за ограниченность, трафаретность и мнимую поверхностную апелляцию к свободе: «Любой не по годам зрелый американский подросток знает, что повседневная жизнь в наше время едва оставляет место для импровизации и что так называемая спонтанность, тем не менее, тщательно спланирована заранее с механической точностью… так называемые импровизации вообще-то низведены до слабой переформулировки основных формул, сквозь которые каждую минуту проступает схема… Масштаб дозволенного в джазе столь узок, что его можно сравнить с кройкой одежды».
Есть и особая ирония в утверждении, что джаз служил предзнаменованием эмансипации бедных, угнетённых и колонизованных, в то время как во многих уголках земли он, к слову, был олицетворением урбанистических космополитических классов и, наоборот, обострял социальное неравенство. Если в послевоенном мире (после II мировой войны. — Ред.) он разговаривал на одном языке с теми, кто искал освобождение от колониализма и расовой изоляции, то в межвоенное время (1920-30-е гг. — Ред.) это была плебейская музыка, охотно присвоенная людьми с аристократическими амбициями, которые трансформировали её из метода самовыражения традиционных культур в первый современный массовый продукт потребления. Продукт, которая даровал тем, кто потреблял его, статус «культурно просвещённых».
Джаз — не точный индикатор классового расслоения, и это более всего очевидно на примере тех, кто охотнее всего сводил счёты с социально-экономическим неравенством: на примере идеологов социализма. Джаз впадал в немилость и выпадал из неё с каждым «приливом и отливом» в советской политике и развитии международной революции пролетариата. В какой-то момент это была «музыка толстых» (по словам Максима Горького), злонамеренный заговор с целью заставить человека отдать руководство своей жизнью собственным половым органам, поставщик «ложных потребностей», воплощение «упаднического буржуйского потворства слабостям». Как бы то ни было, чтобы избежать «смущения от солидарности с фашистами и американскими правыми» в борьбе против этой музыки, джаз был реабилитирован как народная музыка угнетённого чёрного пролетариата.
Больше всего большевики боялись в джазе буржуазной фривольности, которая олицетворяла, по их мнению, национальный американский характер. Но в то время не обязательно было быть коммунистом, чтобы разделять эти опасения. Практически везде, где появлялся джаз, его распространение воспринималось как выражение кризиса национальной самоидентификации, страха по поводу американской культурной гегемонии и общего недовольства современностью как таковой. В 1934 году ирландская Гэльская лига осудила эту музыку за то, что она «разрушала национальные ценности, так как идеи её слишком иностранны для ирландцев…» Союз Дисциплины Голландии (Tucht-Unie), стремившийся «бороться с распутством и украшать жизнь общества», предупреждал читателей своих рассылок, что «все эти развращённые движения по кругу, эти шарканья туда-сюда, подёргивания, потрясывания, извивания… всё это ведёт к запретным деяниям». Таким образом, мы можем сказать, что люди, жившие при самых различных политических и экономических системах и боявшиеся таких «недугов», как легкомыслие, распутство, безответственность и невоздержанность, относились с неприязнью к джазу как к источнику социального раскола и проявлению культурного суицида.
Существует и вопрос эксплуатации джаза государствами и политическими организациями с целью продвижения своих идей. В попытке создать новый национальный культурный порядок в военное время, японское правительство проводило политику «революции лёгкой музыки»: в музыке сохранялись ключевые инструментальные и ритмические элементы джаза. «Национализация свинга», проводимая советским правительством…, ознаменовала создание уникального «советского джаза» — и точно так же противники коммунистов, фашисты, пытались «поддерживать впечатление доброжелательности» и создали «немецкий джаз». Джаз был особым инструментом для передачи целого спектра политических мнений в Южной Африке: для умеренных, разделяющих взгляд Национального конгресса на мелкий буржуазный класс (petit-bourgeois), джаз был способом «морально очистить» белых, призывая их лучше относиться к чёрным; для радикалов джаз был наиболее эффективен политически, когда был предан организациям (скажем, «Индустриально-коммерческому союзу») или же вообще духу панафриканского национализма. <…> «Как музыканты мы должны не просто играть на наших инструментах, — говорил музыкант из Заира Чинъяма Чияза. — Мы должны быть просветителями, философами, политиками нашей новой Африки».
Подытоживая сказанное, можно сказать, что джаз обладает множественным политическим, социальным и культурным значением, рождённым в определённых местах в определённые времена. Это требует от исследователей джаза способности отказываться от предрассудков о символическом смысле музыки, — когда большинство этих предрассудков появляются из американской критики, которой присуще… завышать культурное значение джаза как национальной ценности. Эти постулаты имеют мало общего с нашим пониманием того, как «работает» джаз в разнообразных геокультурных условиях.
Теперь, если возможно, я рассмотрю противоположную позицию. Хотя исследователи должны всегда держать в уме такие показатели, как место, время и культура, чрезмерное внимание к ним может привести к тому, что я называю регрессирующим подходом, и к неправильному пониманию того, что джазовый критик Юи Сёити (Shoichi Yui, 1918-1998) назвал «джазовым национализмом». Это может быть связано с переоцениванием роли «культуры» в формировании звучания, которое создают джазовые музыканты, или неадекватное понимание того, каким образом джаз передаёт или иллюстрирует эту «культуру». Пророческая концепция джаза у Юи не просто нашла оправдание тому, что японцы начали играть джаз, но и наделила эту музыку культурной гордостью и политическим авторитетом. Музыканты и исполнители могут перепрофилировать наиболее существенную форму американского искусства, чтобы выразить неудовлетворённость, отчужденность и независимость от Соединённых Штатов как от политической и культурной силы. Однако по иронии судьбы, концепция международного языка, который мог бы передать местное мировосприятие, была прочно слита с идеей расового или национального материализма, которая была столь же богата на предрассудки и, возможно, столь же деспотична, как и шовинистический культурный империализм, которому эта идея противостояла.
Я пришёл к выводу, что такие вопросы, как: «Что японского в японском джазе?» или «Что бельгийского в бельгийском джазе?» — оказывают непреднамеренное, но действенное давление на музыку, музыкантов, публику и на изучение этого вопроса как такового. С одной стороны, музыка попадает под пристальное наблюдение и начинает носить на себе отпечаток «бремени репрезентации». Статус таких джазовых величин, как Луи Армстронг, Билли Холидей, Джон Колтрейн позволил им выражать себя, а не брать на себя роль представителей определённой национальной культуры; более того, их уникальность, а вовсе не типичность — вот что стало тем, что мы так ценим в этих личностях. Напротив, исполнителей неамериканского происхождения ожидает участь представителей расплывчато понятой национальной культуры. Такие упрощённые суждения можно сравнить с утверждением, что Пабло Пикассо — это и есть испанское искусство или европейское искусство вообще. Никто не станет утверждать, что вместо творческого лица Пикассо можно рассматривать любого другого испанского художника.
В международных джазовых исследованиях, тем не менее, артисты-неамериканцы зачастую оказываются обязаны выражать и представлять собственные коренные традиции. В книге «Blue Nippon» я называл эти тенденции «ожиданием Востока» — когда зритель ожидает или предвосхищает появление экзотики, и это порой может оказывать давление на артиста, так что тот сдаётся в пользу репрезентации национальной культуры, вместо того, чтобы использовать более близкие ему средства самовыражения. Эти ожидания не всегда ограничивают [артиста] или наносят вред, но, определённо, бывает и так. <…> Уильям Майнор поддался таким ожиданиям, когда начал своё «джазовое путешествие» по Советскому Союзу (в 1990 г. — см. книгу Майнора «Unzipped Souls. A Jazz Journey Through the Soviet Union». — Ред.), но сама музыка вскоре вывела его из заблуждения: «Когда я только приехал, я искал систему, симметрию, степень влияния или ассоциацию, смысловую линию или последовательность, которые, кажется, не существовали в реальной жизни. Всё, что я нашёл, была музыка в её удивительном многообразии».
Сама природа джазовой импровизации даёт возможность задуматься над тем, как сильно вхождение в определённую культуру («энкультурация») ограничивает воображение людей. Не то чтобы культурное происхождение и воспитание человека, его индивидуальность и язык, его жизненный опыт не оказывали влияния на музыку, которую он играет, слушает или любит; но одного нашего желания или субъективного впечатления мало, чтобы это доказать. Люди, которые слушают музыку и пишут о ней, зачастую проецируют собственные взгляды на сущность этого вопроса, в убеждении, что национальная окраска самовыражения — это логичный, если не единственный способ создать самобытный джаз. Некоторые исполнители, несомненно, намеренно пытались фиксировать и передавать то, что считают «национальным характером» — и по многим причинам: чтобы передать глубокое чувство культурной гордости и привязанности к родным местам; чтобы открыть новые, ещё неизведанные творческие возможности; чтобы выделиться на международной музыкальной сцене, на которой доминируют американцы. Однако делать это умышленно или же неосознанно, по зову некоего трансцендентного, метафизического национально-культурного духа — это разные вещи, на мой взгляд.
 Я воспринимаю попытки молодых музыкантов 1960-х создать «японский джаз» («Нихонтэки дзадзу») не как идею синтезировать джаз и японскую музыку, и не как стремление противостоять «джазовому империализму» созданием японской эстетики, но скорее как совместное желание группы амбициозных артистов сформулировать индивидуальные художественные мировоззрения, определив взаимодействие афро-американских музыкальных идеалов и практик и традиционных музыкальных традиций. Определённо, некоторые приспособили это под коллективные и националистические нужды: так, например, пианист Сато Масахико (Masahiko Satoh) утверждал, что его поколение «должно создавать музыку, которую могут создавать только японцы». Тем не менее, Сато и его коллеги никогда не останавливались в погоне за личным голосом, и эта погоня была для них главной силой джазовой музыки.
Я воспринимаю попытки молодых музыкантов 1960-х создать «японский джаз» («Нихонтэки дзадзу») не как идею синтезировать джаз и японскую музыку, и не как стремление противостоять «джазовому империализму» созданием японской эстетики, но скорее как совместное желание группы амбициозных артистов сформулировать индивидуальные художественные мировоззрения, определив взаимодействие афро-американских музыкальных идеалов и практик и традиционных музыкальных традиций. Определённо, некоторые приспособили это под коллективные и националистические нужды: так, например, пианист Сато Масахико (Masahiko Satoh) утверждал, что его поколение «должно создавать музыку, которую могут создавать только японцы». Тем не менее, Сато и его коллеги никогда не останавливались в погоне за личным голосом, и эта погоня была для них главной силой джазовой музыки.
Пианистка и композитор Акиёси Тосико (Toshiko Akiyoshi) определила для себя музыкальное наследие Японии как водопад изобилия, в котором можно черпать вдохновение в поиске собственного голоса. Вспоминая эмоционально и экономически трудную жизнь в конце 1960-х, она размышляла: «…здесь я и японка, и нью-йоркский джазовый музыкант. Я никогда не считала себя плохим исполнителем, но так много великих исполнителей жило в то же время… И почему-то это звучит трогательно и комично — тот факт, что есть какая-то японская девочка, которая пытается играть джаз… я чувствовала себя крайне незначительной. Что я сделала, революцию в джазовом мире? Обычно японское происхождение было препятствием к тому, чтобы стать джазовым музыкантом, ведь ты не американец. Но я решила, что это как раз преимущество… Возможно, я могу использовать это и внедрить некую часть своего наследия в джаз. Возможно, я могу что-то вернуть… возможно, я по крайней мере могу создать сколько-то сочинений (композиций. — Ред.), и, возможно, в этом моя цель».

Важный аспект воспоминаний Акиёси — в том, что она акцентирует внимание на вопросе формирования артистической личности. Она не говорит о том, что нужно быть «представителем» или что нужно «сохранять» музыкальное наследие её родины, она говорит о «внедрении» этого наследия в воображаемое собрание своих сочинений, которые для неё так же уникальны, как Эллингтон и Мингус для американцев. Её целью было найти себя как творческую единицу посредством создания нового в рамках джазовой идиомы — изучая и используя тембры, инструменты и дух японской традиционной музыки. В этом она, несомненно, преуспела: её композиции для джазовых оркестров играют по всему миру, но при этом вряд ли кто-то осмелится сказать, что Акиёси Тосико типична для «японского джаза», «джаза в Японии», «восточного джаза» — или является его «типичным» представителем. Существуют другие «смешения» джаза и японской традиционной музыки — созданные и японцами, и иностранцами, — и они совсем не звучат так, будто это написала Акиёси.
В конце концов, вдохновение, воображение человека, личность художника разрушают любые попытки осмыслить джаз в рамках параметров национальной культуры. Артистический индивидуализм — это продукт сложного взаимодействия различных культурных «данных», индивидуальных мотиваций и идеологий, а также стимулов, исходящих от институтов и от обстоятельств, в которых творит художник. Место, время и культура — это то, что входит в состав этих «данных» и, таким образом, не может быть неуместным совсем, но эти факторы недостаточны для того, чтобы целиком объяснить происхождение музыки или быть её причиной.
В заключение я хотел бы пояснить, откуда взято название моего сообщения. Это заглавие одной из любимых мной композиций Телониуса Монка «Давайте назовём это» («Let’s Call This», 1953). Когда речь идёт о парадоксе, к кому ещё обращаться, как не к Монку, который также написал композицию под названием «Уродливая красота» («Ugly Beauty»)? Я пытался заострить внимание на стремлении дать всему имя, классифицировать, вешать ярлыки, умещать в категории, пользоваться языком, чтобы подчинить вселенную. Именно это стояло за желанием моих слушателей в колледже Дюпейдж выяснить, что японского в «японском джазе», и это же побуждает остальных пользоваться логикой таких категорий, как национальность и государство, чтобы классифицировать джаз. Так что название указывает на эту склонность… Определённо, композиция «Let’s Call This» была «символическим» ответом на критику сочинений и импровизаций Монка, которая характеризовала его стиль как «угловатый», «нестандартный», «асимметричный» и так далее и пыталась осмыслить их с точки зрения устоявшегося музыкального эстетического лексикона. Как бы то ни было, я не стану додумывать за Монка и призываю к пониманию более всеобъемлющей истины: искушение назвать то, что должно быть не названо, или разрешить то, что должно остаться неразрешённым… Нужно ли ему имя, чтобы существовать, спрашивает Монк? Или чтобы оценить его? Всегда ли нужно найти решение вопроса? Нам как исследователям — в определённом смысле да, этого не избежать. Однако я полагаю, что каждый из присутствующих здесь узнал сегодня нечто мистическое или необъяснимое от Телониуса Монка. Думаю, к нему стоит прислушаться.





Диана, спасибо за предоставленную возможность познакомиться с этим интересным докладом. Действительно, часто сталкиваешься с желанием некоторых авторов приклеить ко всему ярлыки, каждому явлению определить прокрустово ложе бытия. Примером тому могут послужить некоторые бурные дискуссии, возникающие на странице Александра Фишера в данном портале. По-моему, жизнь многогранна и безгранична и этим прекрасна.
Спасибо всем , кто подготовил этот очень серьёзный и очень своевременный (в данном случае говорю о себе) материал. Настолько интересно и объёмно раскрыт один из краеугольных вопросов явления «джаз-как часть мировой музыкальной культуры».